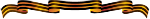Под железным бортом бухала желтая вода, и время от времени веер брызг обдавал палубу. Китайчонок водил ребятишек Дуни на палубу, показывал вентиляторы, рубку с дымившейся трубой, их окатило водой. Стекла рубки обливались, словно на них плескали непрерывно из ведер. Дети ушли. В рубку вошел капитан и, приподнявшись на цыпочки и прищелкнув пальцами, сказал с восторгом: – Какая красавица с нами едет! Капитан из забайкальских казаков, ростом невысок. Усы и борода плохо растут, клочья густой черни торчат под скулами. Иван стоял у штурвала. Он не ответил. Дуняша с детьми устроена в отдельной каюте. Оттуда все имущество Ивана вынесено и духа его нет. Китайчонок с косой пособляет Дуняше, приносит кушанья с камбуза, все убирает, играет с детьми, как нянька. Он живо снял с ребят мокрые рубашки, выстирал, выгладил, принес перед обедом накрахмаленные. На пароходе знают, что Иван взял в своей деревне пассажирку, какую-то свою родственницу. Баба сочная, молодая, гладкая. Механик поднялся, постучал к ней в дверь, зашел в каюту. Он с черной головой в проседи. – Как переносите качку? – спросил у Дуни. – Мы привычны! – вежливо ответила Дуня. – Пароход наш морской, ходим к Сахалину на промысла морской капусты. Бывали в Японии. Ведь это только говорят, мол, Япония. А на пароходе близко. Как отсюда до Николаевска. От Сахалина до их порта… Грузим капусту, идем во Владивосток и, если шторм, зайдем к японцам… Какой ты беленький! Смотри, тебя сороки украдут! – сказал он Павке. – Видите какая качка. Иван Карпыч у нас сам у руля сегодня. Он как вам приходится? – Дяденька мой! – ответила Дуня. «Одета в бархатное пальто с собольим воротником, не каждая барыня в таких мехах! – подумал механик. – Бердышов выказывает ей полное уважение, в каюту не заходит, позвал ее старшего парня в рубку, давал ему штурвал в руки. Велел зайти и спросить, не тревожит ли машина? Кажется, родственница из богатенькой семьи…» Механик спустился к себе, где лязгали и бегали шатуны и поршни. – Ну как, видал? – спросил его помощник. – Видал. – Теперь я пойду, вот я игрушку отнесу ребятам… В рубку заглянула Дуняша. – Здравствуйте! – сказала она. Все заулыбались. И рулевой, и капитан, и сам Иван. – Заходи, живо, а то снесет и прыгать за тобой придется, – ответил Иван. Мальчик тер глаза. – Уведи его, да побаюкай, – сказал Иван рулевому, – видишь, как его укачало. Посиди с ним. Рулевой повел Семена в каюту. Капитан ушел отдыхать. – Ты что грустна? – спросил Иван. Дуня не ответила. – Уходи ко мне от мужа, – сказал он. – А разве так можно? – А разве ты не видела, как на прииске люди живут? – То на прииске! – И всюду так. Теперь все можно… – Нет, – ответила Дуня. – Нельзя. – Все можно. Я уж тебе говорил, попы продажны. Мы с тобой уехали бы… Куда хочешь. Ну, скажи… – Нет. Иван видел, что она не гневается. Лицо ее не обманывает никогда. Ей приятно слышать все это. Казалось, она даже радуется – и словно отдыхает. – Хочешь, я переложу руль, и пароход пойдет обратно, прямо в Хабаровку, полным ходом… На пароход – и во Владивосток… А оттуда… Она молчала. – Детей твоих бы я любил, как своих. Вместе с гнездом тебя выкраду. – Поворачивай! – вдруг сказала она улыбаясь. Иван стал перекладывать штурвал так старательно, словно он доставал воду из колодца. Волна рухнула в борт, рубка накренилась. Пароход обошел большой полукруг, Иван подал какую-то команду механику. Паровая машина заработала тяжелей, постепенно ход выравнивался. Опять застучало внизу веселей.
– Ты знаешь, я тебя всегда любил. С ранних лет. Дуня подняла голову и смотрела куда-то далеко-далеко, поверх всего, островов и гор… А Иван чувствовал, что его начинает бить дрожь и охватывает страх от небывалой робости. Пароход на самом деле шел в другую сторону. Голубой огонь метнулся из ее глаз. – А теперь… – сказала она, улыбаясь и ласково и печально, и положила свою руку в кольцах на его волосатую лапу на штурвале, – поиграли, и хватит… Давай обратно! Иван крепко держал руль. – Пусти, – сказала она и, ласково овладев его пальцами, отвела руки Ивана от штурвала и оттолкнула его. Она сама встала к штурвалу, умело стала разворачивать судно и засмеялась. Подобрала юбки и как провалилась в люк. Вошел капитан, а снизу, оттуда, где исчезла Дуня, появился рулевой. «Паря, Дунька! – подумал Иван. – Осрамила меня перед всей командой! Хотя, кто что знает! Я учил, показывал, хвастался… Всем известно, что хозяин-промышленник, значит, купец, то есть самодур! Так показывают нас в театре, так знают все люди!» Холодный ветер у Тамбовки в устье Горюна стал еще сильней. Под вечер пароход бросил якорь. Перекинули трап на берег. Китайчонок, посадив на спину Павку, запрыгал на холодном ветру по палубе, а потом, осторожно ступая разутыми ногами, пошел вниз по мокрому трапу. – Это че же! Не мой ли внук? – воскликнул Спирька. – Тятя! – обрадовалась Дуня. – Иван! Эй, Иван! – крикнул Сильвестр. – Ты заезжай к нам. Погости! – звал Родион Шишкин. – Нет, некогда. Пароход ждут внизу. – Отправь пароход. А сам оставайся, – сказал Родион. Иван увидел, что к трапу сбежались женщины и девушки. Они обнимали Дуняшу. Она повернула голову и посмотрела на Ивана, словно что-то хотела сказать ему своим долгим взглядом. – А водка есть? – спросил Иван. – Когда у приискателей водки не было! – А вы давно оттуда? – Да кто когда! – Я только что! – сказал Родион. – Иди, друг! – Что там? Кого еще убили? – Никого больше… Да ты, чудак, сойди, погости у нас… – Да лучше вы ко мне… Мужики охотно пошли на судно. – Это можно. Поваренок расставил в салоне рюмки, закуску и графин с водкой. – Слушай, ну зачем мы тут в клетке с тобой будем сидеть. Это же срам, пить из рюмок. Стыдно. И выйти нельзя. Живот схватит, и не втиснешься в этот ватер… Пойдем, слушай, ко мне, – говорил Родион пропустив несколько рюмок. – Ну, ладно, паря! Уговорили! Я и сам по твоей Тамбовке соскучился. Пойти? А как пароход? Ведь я могу у вас загулять! Пароходу надо спешить на промыслы. – Ну вот и хорошо. А то уж люди говорят, что ты боишься Горюна, что тебя, мол, бог тут когда-нибудь накажет… Бердышов надел свою куртку с накладными карманами. У трапа он сказал капитану: – Пусть команда сегодня отдохнет. Свежей рыбы возьмем утром в деревне. Здесь рыбачат еще. Если я задержусь, к своим поисковщикам поеду на прииск, то дам знать. Завтра пойдете без меня прямо в лиман к Петру Ильичу. Я сам доберусь до города. Иван вошел в знакомую избу Спиридона, где так любил он, бывало, посидеть за столом… Тут все по-прежнему. Чистые стены из гладко отесанных бревен, та же самая лавка еще живет, тянется от дверей до переднего угла с иконами в тамбовских полотенцах. Дверь открыта в высокие новые комнаты в пристройке, и там слышатся детские голоса. Спирькина жена Арина подала ему красную руку. Арине уже за шестьдесят. Ее лицо в глубоких дряблых морщинах, но она тонка и легка, подвижна, как девица. Лицо ее ожило и засветилось, как у Дуни. «Износа ей нет!» – подумал Иван. – Тут плечами за стены не заденешь, как на пароходе, и дышится легко, – сказал Родион. – Печь у нас всегда топлена. Давай вспомянем старое время, нам еще жить надо! – сказал Спирька. – Нет, Иван любил гулять не у тебя, а у меня, – ответил Родион. – Ну, это пустяки! Это вы тогда дурили… Что же у тебя хорошего! Только что он с Горюна пьянствовать к тебе приезжал… Дуня вышла и что-то шепнула матери. Арина уже заметила, что дочь словно не в себе. Принесли кислой капусты с брусникой, грибов, ягоды. На столе появились открытые консервы, сушеное и копченое мясо, рыба. Задымились горячие пельмени. Мужики чокнулись и выпили по стакану. – Мне на прииске не нравится, – сказал Спиридон и стал закуривать. – Больше на золото не пойду. Грязная работа. Да и все говорят, что скоро бражку разгонят. Там преступления начались. Мужики разговаривали то шумно, то тихо… Время шло. Дуняша исчезла, отвела детей в баню, вымыла их, уложила и сама прилегла. А в избе все говорили и говорили. Помянули, что делается и как живут люди в тех городах, где был Иван. Но разговор все возвращался к здешним событиям. Дуне не спалось. Мать пришла и прилегла на кушетку под зеркалом. Дуня услыхала через открытую дверь, как Родион вдруг громко воскликнул: – Давай, зови девчонок, девок ли… Пусть поют. Давай гулянку устроим, помнишь, как тогда… Арина вздохнула, как бы говоря дочери, чего, мол, только пьяные не затеют. Тяжкое это дело, управляться с пьяными мужиками. – Но тогда у нас и девок не было песни петь, девчонок маленьких согнали, как в полон. И они нам пели. А теперь Тамбовка славится на весь Амур… Какие красавицы у нас произросли. – Высватанные, – сказал Сильвестр, – то есть привезенные. – Нет, свои… Ну, давай, соберем всех песни петь и посмотрим, какие лучше. Пусть поют! – Нам уж недолго жить осталось, пусть ублаготворят! – поддакнул Спирька. Дуня всегда помнила, как еще девчонкой однажды подняли ее ночью со сна. В избе у Родиона была гулянка, и пели хором и плясали, кто-то играл на бандурке. Иван, вернувшийся с Родионом с Горюна, сильно пил, но пьян не был, как всегда, и потянул вдруг ее плясать. А потом… Только лишь потом узнала Дуня, почему в тот вечер мужики были какие-то странные, как чудные. А Иван тогда так разгулялся, развеселился, так ожил, что стал шутить с ней, с девчонкой, как с ровней, как с девицей. Он был и красив и удал, ловок. Она помнила, как его качнуло, пьяного, как он потянулся к ее шее, и она поняла, что он бы хотел ее поцеловать. И ей захотелось испытать этот поцелуй. А он отвел голову и разогнулся. Сам же Родион тогда крикнул: «Молоденькая, а как ожгла!» В самом деле, сама того не зная, она и его и себя ожгла. А пьяные мужики подогревали ее своими шутками. С тех пор она стала многое понимать…
Ветер стихал на дворе, но было холодно, Дуне казалось, что сейчас опять все так же, как было в тот вечер. Но теперь уж она не неразумный птенец, не босая белобрысая девчонка с тоненькой шеей и детскими ручонками. Она еще в детстве слыхала рассказы про Ивана, как он первый пришел сюда, когда еще никого не было, и как жил. Ей казалось, что сейчас словно вернулось то время. «Куда ни шло!» – подумала она. – Я, мама, выйду, – сказала Дуня, и, глянув на себя привыкшими к потемкам глазами в висевшее на стене над кушеткой большое зеркало, она расправила платье и вышла к мужикам, немного жмурясь от света. Их было пятеро, и с ними сидел гольд Дюка. – Смотри! Дочь! – с гордостью сказал Спиридон. – Отец у нее Лосиная Смерть, а она Смерть Мужикам, – сказал Иван Карпыч и махнул рукой с таким видом, словно Дуня вошла, чтобы всех сокрушать. Подымая оба плеча, как бы еще не отойдя от сна и поеживаясь, Дуня взглянула на Ивана. Она хотела взглянуть, как тогда, просто, но синяя молния ударила из ее глаз и обожгла сухое дерево. – Эх, Дуня, ягода моя! – поднялся Иван, как на пружине, и прошелся перед ней, разведя руками. Дуня засмеялась и, разводя руками концы шали, мягко поплыла в плавном танце. – Я за то люблю Ивана, – горячо пропела она, останавливаясь около него, – да, голова его кудрява… – Э-эх-ма-а! Забайкальские казаки… – воскликнул Иван. Дуня подошла к столу и выпила стакан водки. – Зови девок, девчонок ли, пусть поют! – кричал Родион. Все пили и кричали и никто не обращал внимания друг на друга. Появилась гармонь. Дуня пела и опять плясала с Иваном. Потом они сидели на лавке у двери. У лампы кричали и спорили мужики. На Ивана и Дуню не смотрели, их не видели или, может быть, видели, но ей это было все равно. Она обняла и поцеловала Ивана и стала долго целовать его и не позволяла повернуть ему голову. – Уйдем со мной, – просил он. – Уйдем! Она молчала. – Уйдем на пароходе. Теперь уйдем… – Я тебя люблю и всегда любила. – Уйдем… – Что же тогда? Брось богатство, дядя Иван, тогда уйду… Ты был наш и будь наш. Что же я опозорюсь, на богатство польщусь. – Что тебе это богатство… – Ты не со мной наживал. – Брошу все! – Нет… Нельзя лукавить. Ты врешь! – Пойдем… – Нет, ты меня погубишь… Она встала и отошла к огню. Там хором грянули под гармонь печальную песню, словно хотели что-то забыть или похоронить или что-то прощали. Мать Арина запевала тут же, оказывается, сидела она на лавке. Дуня любила ее голос. Согласный и сильный хор забередил ее душу или звал куда-то… И казалось, тем сильней были эти желания, чем быть, лучше совсем не жить. Дуня вдруг поняла все, как прозрела. Она готова была все сорвать с себя и кинуться куда-то… И казалось, тем сильней были эти желания, чем грустней и протяжней песня. Ивана увели к соседям. Он вскочил рано. Родион и Сильвестр повели его к Спирьке опохмеляться. В избе было как-то странно пусто, тихо и чисто и пахло свежим хлебом, словно тут уж отработали целый день. – А где же дочь? – спросил Иван. – Утром ее уже не было, – ответил Спиридон. – Она уехала к мужу на прииск, – сказала Арина, подавая блюдо с кислой капустой. – У нас Тамбовка опустела. Все на приисках с семьями, все моют, рыбу нынче не ловили. У нас скучно… А я золота мыть не иду, бог с ним! – В лодке. Она поехала. Не боится. Пасмурно, а погода тихая. Она лучше меня погоду угадывает, как барометр, – сказал Спиридон. Иван, глядя на Арину, подумал, какая красивая старуха, уж дочерей выдала и вырастила парней, а все легкая и за словом в карман не полезет. А у самого в сердце захлопнулась какая-то крышка, как на карманных часах. «Я ушла бы открыто», – вспомнил он ее слова. «Неужели вся эта красота будет со мной?» – «Я буду с тобой. Невенчана. От Ильи уйду, скажу ему сама в глаза». – «Лучше бы я сказал», – отвечал Иван. «Нет, он тебя убьет. Но я его могу убить… А без тебя не будет жизни мне. Кому погибать? Я тебя всегда боялась… Я знаю, что сделаю, и знаю, что закон преступлю… Теперь всех учат, что грех не так велик. Я грамотная, я думала сама и слыхала…» А день был сумрачный, и, немного выпив, мужики вышли на улицу. Дюка, который пил вчера с мужиками, прошел и крикнул, чтобы рыбы на пароход он отвез, самой свежей, утреннего улова. Он было отошел, но потом вернулся. – Спирька, – сказал Иван, остановившись у изгороди, за которой ходили кони, – а у тебя поскотина уж сколько лет стоит все та же. И не меняешь жерди? Он почувствовал, что пароход сейчас уйдет без него, что он останется здесь… – Я все делаю как следует, – ответил Шишкин. – Новых изб не строю. Почему ты думаешь, что я не меняю стоек. Где надо, и жердь переменю. Вот новая жердина. Иван налег рукой на поскотину. Толстая лиственная жердь не поддавалась… Спирька в самом деле ладил все основательно. А сколько ни был с ним знаком Иван, он никогда не видел Спиридона за работой. Всегда Лосиная Смерть представлялся каким-то бездельником. – Я знаю про что ты… – вдруг сказал Спиридон. – Я же баран. Ты давно ладишься перескочить через эти жерди! За Илью тебе спасибо… А поскотина уже другая. Все сменилось, только на том же месте. Может, пойдем и выпьем? Утешения тебе не будет все равно. Ты, Ванча, – проклятый… Я тебя люблю… И кажется, не только я… Но за грех – грех! Дюка стал звать Ивана к себе. – Иди, посмотри, какой мой новый дом. Такого нет в Тамбовке. Парижаны! – подмигнул он. – Тебе, Ванча, надо бы гольдом родиться! Помнишь, как мы пели: «На моих собаках лоча едет, ханина ранина!» Иван помнил. Они вместе стреляли там, на Горгоне, с Дюкой приезжих. – Нет! – сказал Иван. – Пароход ждет, труба дымится. У меня дела стоят. Ты, паря, не забыл, что я миллионер, приехал с Парижа? Ково же это ты? И тебе нельзя, паря Спирька, так опиваться… У меня тысячи убегают, надо их ловить… Че привезти из города, наказывайте… Утешил ты меня, паря Спирька, я молодость вспомнил… Дочь твоя вечно у меня в сердце, за это не кори… Я поохал… Я же… Люблю и тебя и… Подошли отставшие Родион и Сильвестр. – Знаешь, мы тоже на днях поедем. Если погода будет хорошая, мы еще раз съездим на прииск, – сказал Родион, – все равно вся наша жизнь перевернулась.
Иван перецеловался со всеми и поднялся по трапу. Трап убрали сразу. Пароход быстро отошел. Иван стоял наверху. Спиридон долго еще смотрел вслед ему, а Родион и Сильвестр ушли. По Тамбовке гулял расходившийся ветерок. Потом и Спирька повернулся и зашагал домой. * * * У Красного мыса, отойдя от деревни верст двадцать, Иван велел спустить шлюпку напротив гольдского стойбища. – Тут есть новый прииск, хищники моют, – сказал он капитану. Иван взял оружие, плащ и в охотничьих сапогах сошел в шлюпку. – Ох, зверь! – говорил капитан. – За новым миллионом поехал! Тут ведь знаменитые тайные прииски. Он, видно, знал давно, еще до отъезда, а прежде времени не трогал… Иван сошел на берег. Шлюпка возвратилась на судно. Пароход пошел. А вровень ему шел Иван по берегу. Гольды вышли из деревни встречать его. – Бердышов! – со страхом переговаривались они. Иван купил у них лодку, поел талы, посидел в фанзе, потолковал, рассказывая по-гольдски о Франции и Германии. В полдень он уже гнал лодку под парусом через Амур и, налегая на весла, вошел в протоку и помчался между островами. А ветер крепчал и становилось все холодней…
|