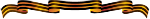Погрузка на клипер шла полным ходом, лодки и японские суда стояли у борта, под стрелами, подымавшими с них тяжести. По трапу с другого борта вереница матросов, подымаясь, несла на себе тюки и ящики. Грузов было немного, и к вечеру предполагалось все закончить, когда в Хосенди, из которого уже вынесены были вещи адмирала и Посьета, явился Бобкок. – Адмирал, – волнуясь сказал он, – не могли бы вы мне увеличить плату на четыре тысячи долларов? Это будет уже окончательно. Я знаю, вы скажете, что договор подписан. Но поймите меня. У меня появились непредвиденные затруднения. – Что за дела? – сердито спросил Путятин. – Очень жаль, но... но... – пробормотал Бобкок. – У него неприятности, на этот раз в своей команде, – сказал Пушкин, вошедший следом за шкипером. – Шайка подступает с ножами к горлу. Его шантажируют. Адмирал попросил немедленно пригласить Крэйга. – Крэйг болен, – сказал Пушкин, – и слег. – Опять? – Да... – Опять запил? – Да, Евфимий Васильевич. Бобкок не может рассчитывать на помощь лейтенанта. Крэйг сидит в каюте в одном белье, сам с собой разговаривает и щелкает пустым револьвером, целясь в потолок. Теперь Крэйг уже не был сильным противником Бобкока. Он мог бы стать драгоценным пособником. Но Бобкок сам себе вырыл яму на переходе в Японию. – А где Сибирцев? – Алексей Николаевич занимался весь день с ротой, перед уходом... Штыковым боем. Бобкок молчал. Погрузка продолжалась. Баркасы и японские лодки подходили к борту глубоко сидевшего клипера и передавали грузы на настил наподобие пристани, устроенный из досок между двух сэнкокуфунэ[*].
[*]Буквально: корабль в тысячу тонн (имеются в виду японские «коку», условно – тонны).
– Их команда опять чем-то недовольна, – вернувшись с баркаса, доложил своему боцману Берзинь. Боцман Черный пришел в Хосенди. – А вы не перемените мнения, адмирал? – спрашивал Бобкок. – Это вы изменяете слову, – сказал Шиллинг. – Я дал честное слово и твердо сдержу его, – ответил Бобкок. – Какие бы опасности мне ни грозили. Раз решившись, я всегда действую без колебаний... Это лишь моя просьба, но не требование. Набросьте четыре тысячи. Пожалуйста, накиньте... иначе очень трудно будет уйти. – Переведите ему, Николай Александрович, – сказал Пушкин, – что даже японцы про него всем расскажут, что он жалкий трус... – Я этого не буду переводить, – ответил Шиллинг. – Переведите сами, если хотите. «Конечно, – полагал Пушкин, – достойная позиция требует и достойных слов, а не брани. Но не с такой сволочью». – Вы же знаете, что я по-английски не говорю, – ответил он Шиллингу, – и не желаю говорить на этом языке! – Откровенно, прямо говоря, открыто, я, адмирал, поддался вашим доводам. Все же я шел сюда из Гонконга и Шанхая, отказавшись от выгодной коммерческой операции. Проникнутый чувством долга моряка и человеколюбия... Команде тоже надо что-то заработать. Они идут на риск. Стены храма затрещали, и с крыши скатилась черепица. – Трясет, господа, – сказал Посьет, входя с бумагами в руке из соседней квартиры священника. – Ночью ожидается сильное землетрясение, – обратился он к Бобкоку. – Надо уходить как можно скорей, если дорожите судном. На этот раз может, как мне сейчас сказал ученый японец, опять нахлынуть цунами. Впрочем, трудно верить их предсказаниям. Однако признаемся, что опыт у них есть. Не правда ли, капитан? Опять дом тряхнуло. Бобкок поднялся, поглядывая на собеседников. Адмирал сидел, не меняя позы. Посьет продолжал любезно улыбаться. День тяжелый, душный. «В самом деле как перед цунами! – подумал Шиллинг. – Еще накличем на себя беду. Матросы сегодня все злые, работа на погрузке тяжелая, американцы неприветливы, сами не знают, чего хотят. Но, как говорит Леша, выйдем в море и там разберемся!» – Согласиться не могу и говорить отказываюсь, – сказал Путятин по-русски. – Если же прибудем благополучно и без недоразумений, то могу дать премию, но обязательств брать не могу и не могу ничего обещать. Сизов терся липким мылом, песком, глиной и тер руки пемзой в бане у приятеля. Черная смола въелась в морщины рук, мозоли пропитались этой чернью, на ладонях как черные лепешки. Оаке разделся, поплескал на себя воду, выждал, пока она сильно нагреется, и залез чуть ли не в кипяток, окунулся и сразу вылез, показывая Сизову, что бояться не надо. – Что, брат, не сваришься? – спросил Сизов. – Иди... – сказал японец, – хоросё... – Я сейчас не пойду. Пусть приостынет. Кикути чист лицом и телом, у него гладкие, ровные мускулы и тонкий рабочий стан. Он все же не стал купаться первым, предложил гостю. Сизов показал свои ладони, в которые смола въедалась годами. – Такелаж у нас смоленый... Всюду смола. Кикути уже знал теперь слова: «такелаж», «контора» и много других. Прежде плотники полагали, что матросы грязные люди и у них руки в грязи. А теперь у самих такие же руки. – Хорошо, брат, по вашему климату, – сказал Сизов, обтерпевшись. – А то в жару на работе под мышками разъедает, все тело саднит. После бани и чая Сизов сказал: – Да ты мне обещал редьки на дорогу... Жена плотника принесла матросу редьки и разных овощей. Сизов простился и пошел в лагерь. Но свернул не доходя и отправился к двухэтажному дому, где жила Фуми. Вернулся он поздно, когда заиграла труба, и перелез в лагерь через забор. К клиперу подходили с фонарями баркасы и шлюпки. По исполинскому борту чайного клипера на длинном трапе и на помосте нескончаемой вереницей выстроились во тьме матросы с оружием, ранцами и мешками. Точибан все слышал и понимал. Ящик его подняли и вынесли из лагеря. Заложили в баркас под другие ящики. У борта корабля японцы задержали грузы и о чем-то говорили с русскими. Ящик приподняли, но еще не понесли. Несколько человек сели на ящик с Точибаном и закурили. Японцы помогали русским при погрузке. Посоветовали перевернуть ящик, поясняя, что так удобней. Точибан лежал окутанный одеялами. Его вдруг быстро перевернули головой вниз, вверх ногами. Он больно ударился головой. – Не гремит. Здесь не оружие, – сказал кто-то по-японски. Точибан знал, что его не выдадут, но при каждом слове японцев у него замирало сердце. Русские что-то ответили. – Там вещи адмирала, – пояснил переводчик. Ящик вдруг подняли и понесли наверх. Точибан стоял на голове. Дыхание перехватило. Он изо всех сил упирался локтями. Захотелось чихнуть. Неужели это моя гибель? Он стал твердить себе, что теперь он не сам решает, он сделал все, что мог, теперь зависит только от судьбы. Лучше гибель. Остаться в живых очень страшно. Японцы его сразу казнят. Ящик медленно подымался куда-то ввысь. Вот и стук русских сапог о палубу. Я на американском корабле! Я не в Японии! Но на душе больно и тяжело дышать. Никто, кажется, не заметил, никто не знает. Все подозревали его, но толком никому и ничего не известно. Лежа в своем ящике, Точибан представлял, как он насолил дайкану Эгава. К тому же русские бросили работу. Шхуна не спущена. Русские окончательно уходят с этого берега, все до одного. Они спешат на войну, чтобы сражаться, в этом их оправдание. Американцы уверяют, однако, что русские ничего не умеют и уходят от позора, шхуна их никуда не годится. И некоторые опытные в судостроении японцы тоже очень сомневаются. Все говорят: такая шхуна не сойдет со стапеля. Но как ужасно в этом ящике. Теперь Точибан лежит на боку, так легче. Ящик поехал вниз. Теперь он лежит в трюме, на дне. А если забудут, что в нем человек? О-о! «Вот судьба!» Точибана охватывает сильнейший припадок ненависти. Он готов грызть эти доски зубами. «Вот что получилось... Я в ящике подымался вверх ногами и, может быть, погибну вместе с вещами в глубине трюма, как жалкая мышь. Это за грехи? Или за лучшие несбывшиеся надежды? Когда попался, то и подчиняйся кому-то, если зависим, то терпи и молчи и проклинай себя и свою судьбу! О-о!»
Американские матросы столпились на палубе у трапа. – Мы не пойдем! – заявил Дик шкиперу. – Нет, пойдете! – отвечал Бобкок. – Отказываемся везти такую ораву. Эй, не пускайте их на палубу! А те, что прошли, пусть уходят! «Что там случилось наверху?» – думал Сибирцев, стоя на трапе со своими матросами. Движение приостановилось. Тьма вокруг, и слышно, что американцы говорят. Не вовремя они свои права заявляют. Спросили Авдюху, спускавшегося по трапу, он понимал по-английски. – Ссорятся из-за денег! – сказал он. Но что может сделать матрос? Матросу велено стоять – он стоит. Благо, трап крепкий. И все стоят. «И я стою!» – думал Сибирцев. Прошли наверх Посьет и Шиллинг. ...Бобкок увел коноводов бунта в рубку, и там долго говорили. Вдруг дверь рубки распахнулась, и оттуда спиной вылетел Томсон. – Здоровый у них шкипер! – сказал Маточкин, стоявший с Синичкиным и Сидоровым. Они принесли ящик с Точибаном и теперь вместе с другими матросами, работавшими на погрузке, стояли на палубе без дела. Внизу на трапе что-то закричали, и матросы, стоявшие выше других, попытались ступить на палубу. Двое рослых американцев преградили им дорогу: – No... no[*]...
[*]Нет... нет...
– Ай сэй... сорри[*]...
[*]Я говорю (послушай)... извини...
– Что там, асей? Рослый, сильный американец, расставив ноги, сказал Янке Берзиню: – Кам бэквард![*]
[*]Идите назад!
– Уай «кам бэквард»?[*] – передразнил Берзинь.
[*]Почему «идите назад»?
Матросы начинали терять терпение. Вместо ответа американец сильно и умело толкнул Янку в грудь.
– Братцы... – испуганно завопил Берзинь, обращаясь к товарищам. – За царя! И вся масса матросов, как по команде, ринулась на палубу. – Янка, Янка... Дай ему, дай! – крикнул Маточкин. – Я сам... Поток матросов разливался по палубе. – С ними надо, как они... Бобкок с пистолетом бегал за своими матросами и, догоняя, бил их ногами, яростно ругался. Он выстрелил в воздух. С трапа на палубу валили и валили матросы, в полной уверенности, что выпалили в русских. – Бунт! – орал Бобкок. Он кинулся к поднявшемуся Путятину. – Прикажите, адмирал, своим людям укротить их... Все из-за четырех тысяч... Это они называют борьбой за права человека! – Иди обратно! – орал негр у входа в жилую палубу. – Братцы! – раздался зычный голос, какого никто еще не слыхивал от Евфимия Васильевича. – Унять команду клипера! За бортом что-то бултыхнулось, словно всплыл и перевернулся кит, и сразу же это повторилось еще и еще, как будто запрыгали дельфины. – К черту их! – Бобкок еще раз выпалил в темноту. – Человек тонет! – кричали снизу. – Огня... Шлюпку... – Черт с ним! Пусть тонет! – отзывались сверху. – Вяжите их, ребята... Сами доведем судно! – Не держи, отпусти меня, дай ему смазать по скуле! Сволочь этакая! Во тьме опять послышалось бульканье. Еще кто-то из американцев прыгнул с борта в черную ночную воду. По всей бухте слышался плеск отплывавших в разные стороны, раздавались крики и шлепки о воду спешащих к берегу. Кто-то захлебывался и кричал отчаянно, видимо тонул. Драка американцев на палубе со своим шкипером закончилась, и библейскую бороду уже понесли на носилках... – Пусть знают, как подличать... Эх ты, переметная сума! – ругался Маслов на Бобкока. Путятин вынул платок и вытер руки. – Евфимий Васильевич, вы тоже руку приложили? – спросил Берзинь. И Путятин бивал. И он хаживал против турок врукопашную. – Хуже турок, Евфимий Васильевич!.. – Сгружайтесь! – велел Путятин. – Толку не будет. Тут мокрое дело! – обращаясь к Пушкину, сказал он и глянул на матросов. Сам удивился, что заговорил на их жаргоне. – Адмирал, я сейчас соберу команду и пойдем, – подбежал Бобкок. – Я их найду всех... – Теперь я рву контракт, – ответил Путятин. – Что? Адмирал... Как можно? Вы пренебрегаете долгом, жалея денег. Потоки матросов с ящиками потянулись на трап и в шлюпки. – Мьютини![*] – качая головой, примирительно сказал старый моряк со свежей ссадиной под глазом.
[*]Мятеж.
– Бунт на клипере! – ответил ему Глухарев. – Я тебе покажу! – поднося кулак под нос обидевшему его американцу, сказал на прощание Янка Берзинь. По бухте люди еще плавали и кричали, а японцы с фонарями бегали по всему берегу. «Что же со мной? Зачем меня на берег? Почему? Неужели выдадут японцам? Я погиб, – думал Точибан, когда ящик с ним подняли в сетке стрелой и поставили па палубу. – Странные западные люди! Что вы делаете друг с другом и с нами!..» «Конечно, это меня обратно привезли в Японию!» – подумал Точибан, выбираясь из-под крышки, поднятой матросами. Он опять в том же бараке, словно и не уезжал... Утром отряды вооруженных самураев двигались в поисках беглецов по лесным дорогам. Пятеро американцев спали в храме среди сосен, когда послышались крики и поднявшихся беглецов окружили копья и поднятые сабли. К каждому подошло по двое японцев. Хватая беглецов за плечи и заламывая им руки, японцы перевязали всех и вывели на дорогу. – Пошли! – раздалась команда, подтвержденная движениями копий. – Протестуем! – Переводчика! Я больше не могу! Развяжите руки, – просил рыжий американец. Среди самураев шел Эйноске. Он долго молчал и наконец ответил: – Пожалуйста... Что угодно? – Не имеете права... Человек свободен... Вы ущемляете законные права... Что мы плохого сделали? Как вы смеете? – Здесь Япония, пожалуйста... Это не Америка! Тут вам не удастся так двигаться и бегать, как от своего правительства... как дома... – Руки развяжите! – Невозможно... У нас в таких случаях, когда преступник возражает, полагается заткнуть ему рот тряпкой. – Почему? За что? – Запрещается спать иностранцам в Японии без приглашения. – Мы еще вам покажем! – ответил американец. – Можно нам или нельзя ходить по вашей Японии – это знаем мы. Дайте срок! Пятерых голодных, оборванных и связанных янки привели в деревню, держа над ними острейшие наконечники. Бухта под солнцем густо-синяя, а горы зелены от свежей листвы и хвои. На поверхности бухты нет сегодня сторожевых лодок и нет рыбацких. Чисто и спокойно стало в Хэда... Клипер вышел из бухты и стоит вдали на рейде.
|