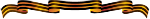Зашли в казарму. Женщины там опять что-то пекут и жарят. Матросы, здешние и приезжие, оживленно беседуют. Один со шхуны диктует письмо писарю. Другой – молоденький – прыгает, держа на спине мальчишку лет трех-четырех. Римский-Корсаков велел своему боцману готовиться к отплытию. – В час отваливаем! – Сегодня? – воскликнули женщины. – Да, сегодня! – Что уж вы, ваше благородие, погостить молодцам не даете, – стоя у плиты, говорила белокурая Алена. – Мы им сегодня уж и блинов, и пельменей. Видно, у нас не нравится? – Очень нравится, я и сам бы погостил, да нельзя. – Не испробуете ли наших блинцов, ваше благородие? Присядьте, покушайте. Римский-Корсаков и Орлов подсели к столу и съели по паре блинов, жаренных на зверином сале. – Благодарю тебя! – сказал Воин Андреевич, обращаясь к Алене. – Да чайку, самовар уж шумит. – Нет, спасибо. – Нет уж, верно не понравилось вам у нас, что рано уходите, – говорили женщины. – Оставались бы зимовать, ваше благородие. У нас весело! – Маленько бы и молодцы-то твои усохли, – сказала под общий хохот рослая старуха. Римский-Корсаков попрощался с женщинами, а своим наказал к полудню закончить все приготовления и пообедать. Он заметил, что в казарме чисто, амуниция у людей в порядке. Народ выглядит весело. Он взял из стойки одно из ружей и осмотрел. Оно чисто. – Ученья бывают, стрельбы? – Да у нас все время стрельбы, ваше благородие! – отвечал матрос. – Сейчас перелет дичи. А зимой по морскому зверю, на пропаринах, – сказал доктор. – Сегодня на обед наши дамы приготовят разные деликатесы из дичи. Есть теперь охотничья команда. Он опять помянул, как плохо снабжается экспедиция. «Неужели Муравьев обманул? – подумал Римский-Корсаков. – А ведь он уверял Николая Матвеевича, дал слово». Воину Андреевичу стало стыдно за свои подарки. Но в Японии ничего не купишь. На Бонин-Сима приобрели, что возможно, но и там ничего особенного нет. Доктор сказал, что здесь всем принято делиться друг с другом, офицеры и матросы получают равные пайки, и молоко делится всем детям поровну. Пошли по берегу. На другой стороне залива полукругом стояли сопки материка. Они в черной зелени елей и в яркой желтизне берез. Вчера ничего не было видно, а сегодня яркое солнце. Как на ладони видны широкие пласты перепаханных огородов на кошке, пески, лес кедрового стланика. На песках бревенчатые дома. Доктор показал казарму для семейных, заглянули в маленькую больницу, прошли мимо дома священника, видели сарай для трех коров и юрту для кормежки собак. Гиляк парил юколу в котле. По заливу на лодках матросы везли сено. Зашли на склады, в баню, видели навес для гребных судов, колодец – все новое, из свежего леса, основательно построенное. Вдали бревенчатые юрты гиляцкого стойбища. На самом берегу наклонно лежит на пузе бриг «Охотск» с невынутыми мачтами и с вантами. – На этом старом судне у нас магазин. На флагштоке полощется флаг Компании. Доктор рассказал о неладах между Компанией и Невельским. – Чем же недовольна Компания? – удивился Римский-Корсаков. – Если принять в соображение, что все, что я вижу, сделано за два с половиной года, то надо удивляться энергии Невельского. Без основания Петровского, за которое Россия обязана Невельскому, тут ничего не было бы предпринято. Доктор рассказал, что в речках всюду есть золото. Невельской уверяет, что в крае есть железная руда, что на Сахалине гиляки находят горючую жидкость, видимо, нефть. Подошли к батарее. Из амбразур выглядывают четыре маленькие пушки. – И это вся защита? – Да, это пушки с брига «Охотск». Да и ружей у нас современных нет. Ни одного штуцера… Идемте смотреть пароход, который прислала Компания. Трубы все проржавели. Мы в своей кузнице пытаемся отремонтировать. Посмотрите и кузницу. Доктор полагал, что Римский-Корсаков, как командир паровой шхуны, понимает толк в машинах и поможет механику дельным советом. – Что же ты смотрел, когда отправляли пароход? – спросил Воин Андреевич у механика. – Я говорил. Меня не слушали, – отвечал тот. После осмотра парохода проехали вдоль берега на лодке с гребцами, на ней же возвратились обратно. Пошли к Екатерине Ивановне пораньше, как и были приглашены. Невельская поблагодарила за подарки. – Табак такой Геннадий Иванович очень любит! – сказала она. – К сожалению, фруктов свежих не было. Японцы нам лишь лук, морковь да гнилые арбузы доставили. – Лук и морковь у нас свои. И капуста, и картофель, брюква, свекла. – Все растет? – Да. «Как это приятно слышать!» Гостей принимали четыре дамы: Невельская, Харитина Михайловна Орлова, Елизавета Осиповна и еще новенькая. – Москвичка наша, Ольга Ивановна, супруга священника, – сказала Орлова. Римский-Корсаков немедленно был представлен. Он уже слышал от доктора, что это жена священника отца Гавриила, молодого человека, который тоже в командировке, послан требы совершать и заодно делать опись какого-то озера. У Невельского и доктор, и приказчики, и священник, и толковые матросы, видно, исполняли поручения, которые сделали бы немалую честь любому офицеру. Отец Гавриил, сын знаменитого Иннокентия Вениаминова, тоже миссионер. «Тут, кажется, знаменитостей выйдет не меньше, чем на нашей эскадре!» Оказалось, что в прошлом году на ботике, тут построенном и потом переделанном, штурман Воронин произвел весьма тщательную опись берегов южного пролива, делал промеры. Он также описал западный берег Сахалина и его незамерзающие гавани. «А наши офицеры на «Палладе» ждут, что имена их будут увековечены на географической карте, если удастся описать новые берега. Но Японию, кажется, не придется описывать. Ну, а если опишем те гавани на юге, о которых просит Геннадий Иванович адмирала, то уж, конечно, и Посьет, и Фуругельм, и Криднер, и мой Шлиппенбах, и сам Путятин навеки запечатлят свои имена на карте, как благодетели России. Впрочем, остается же имя Де-Кастри. Чем же они хуже?» Жена отца Гавриила – пухленькая белокурая женщина, скромная, румяная, на вид нежная и очень аккуратная, судя по тому, как она помогала хозяйничать Екатерине Ивановне. – Вы видите, Воин Андреевич, все наше дамское общество. Мужей наших нет, мы одни и очень рады вам! – сказала веселая сегодня хозяйка. Ее дочке получше, и она рада. За обедом дамы рассказывали, как они тут живут, как лечат, крестят, как учат гиляцких и русских детей, как шьют на команду, стряпают, как сами ходят на лыжах и ездят на собаках, когда надо, как ждут мужей из командировок и как, оставаясь одни, терпят страх, как веселятся и устраивают тут праздники, балы и танцуют, и дают домашние спектакли, и какие тут трагедии любви в казарме, пришлось женатых отделить, построить для них отдельную казарму. Были и бунт, и воровство, и драки из-за ревности. И самого лучшего своего матроса Ивана Подобина пришлось Геннадию Ивановичу забрать на судно «Иртыш», так как он не ладил с мужем красавицы Алены. – Это та, русая, что блины пекла и нас сегодня угощала, – пояснил Орлов. Бывают ли трагедии любви в офицерском обществе? Никто не говорил об этом. «Но не из-за этого ли мой Николай Матвеевич так томится?» Римский-Корсаков спросил о маньчжурах, где их посты и селения. Оказалось, что маньчжуры привозят дамам сарацинское пшено[*], сласти, орехи, пряности, китайский шелк.
[*]Сарацинское пшено – рис.
– Вы видите, мы, дамы, одни и не боимся нападения маньчжуров, которых так опасается правительство в Петербурге! – сказала Екатерина Ивановна. – У нас есть и китайцы среди знакомых маньчжуров, – заметила госпожа Орлова. – Первое время было страшно, происходили трения, купцы восстанавливали гиляков против нас. А теперь все стихло и маньчжуры наши друзья. – Вы можете передать адмиралу, чтобы он не опасался из-за маньчжуров приблизиться к нашим берегам, – с холодной иронией сказала Бачманова. Дамы подтвердили, что Муравьев не снабдил экспедицию как следует. Он уехал в Петербург и шлет письма, в которых целует ручки Екатерине Ивановне. Римский-Корсаков стал уверять, что Чихачев честно исполнил свой долг, он хлопотал, старался, какой бой выдержал с генерал-губернатором. – Мы в этом не сомневались, – ответила Екатерина Ивановна. – Муравьев ему все обещал, и Николай Матвеевич уверен, что пост снабжен всем необходимым. – Но губернатор прислал лишь часть того, о чем мы просили. А вы видели наши пушчонки с брига «Охотск»? Были еще две, они отправлены – одна в Николаевский пост, а другая – в Де-Кастри. Римский-Корсаков думал о том, как нехорошо, что Муравьев дал честное слово, а ничего не сделано, парохода нет. И при всем этом Геннадий Иванович исследовал Сахалин и ушел туда с десантом. На карте явилась масса новых пунктов. Пока наша эскадра стоит в Японии, тут – по карте видно – жизнь далеко ушла вперед. Он понимал, каких трудов стоило занять каждый новый пункт. – А какое впечатление у вас от нашего Петровского? – Прекрасное! Я уж говорил доктору, что это единственное место на океане, где англичанами и не пахнет! Здесь все очень основательно сделано, и молодцы ваши производят отличное впечатление. Она думала: «Все это так. Но идет зима, а у нас нет запасов сахара, масла мало, нам опять предстоит питаться ржавой рыбой, хлебом из старой муки и звериным мясом, к которому начинаешь чувствовать отвращение». – Да, это так! – произнесла она. – Мы обстроились, и у нас все есть… Но какова будет зимовка на наших новых постах? В Де-Кастри и Хади? Какие там отношения с туземцами? Вы не хотите посетить эти посты на обратном пути в Японию? – Я… – Вы ограничены временем и спешите в Японию? – Нет, это ничего не значит! – вспыхнул Римский-Корсаков и подумал: «Черт побери! В самом деле, долг мой зайти в новые бухты, какую бы я ни снес за это ответственность. Мало ли что там могло случиться». – Я бы прежде всего хотел встретить Геннадия Ивановича и откровенно объяснить ему все. Я сам считаю требование адмирала Путятина недостаточно верным. – С Сахалина он возвратится в Де-Кастри и высадится там, чтобы следовать вниз по Амуру. – Я непременно зайду в Де-Кастри. Адмирал ограничил меня временем, так как он опасается, что начнется война, известия о ней могут быть в Шанхае, и по прибытии в Нагасаки шхуна немедленно пойдет в Шанхай за ними. Но судьба новых постов заботит меня, и я непременно постараюсь посетить и Хади, и Де-Кастри. Даже если мне не удастся увидеть Геннадия Ивановича, то я увижу, что делается на этих постах, и постараюсь, чем возможно, помочь… Ее чистый взгляд был полон благодарности. – Муж запаздывает, и я очень сожалею, что вы не увидите его здесь. Да, вам надо повидаться. Конечно, проще надеяться на встречу в Де-Кастри. Если его там не будет, вы сможете, ожидая его, зайти в Хади. Вы объявите адмиралу, что у вас не было иного выхода узнать истинное положение вещей с Сахалином, как встретить самого Невельского, так как никто ничего не знал, вы застали в Петровском лишь дам под начальством доктора. Это уважительная причина. Вы искали его, желая исполнить приказание адмирала. Римский-Корсаков почтительно склонил голову. Заговорили о Хади. – Муж назвал его именем императора Николая. Это Императорская гавань. Он говорит, что это в самом деле царь-гавань, как существует царь-пушка. Екатерина Ивановна заметила, что в Хади не бывают маньчжуры, туда даже не заходят китобои. Они не знают ее. Поэтому там нельзя приобрести продовольствия. – Ведь иностранные китобои иногда помогают нам. Но они требуют за свои продукты серебро или меха. Сначала мы не знали и опасались их и даже стремились запретить им посещение края. Но теперь американцы, как и маньчжуры, которых так опасаются в Петербурге, не раз выручали нас. Если это не было бы запрещено законом и у нас были бы люди, мы могли бы мыть золото на наших речках и таким образом добывать себе пропитание, которого нам не дает правительство. Много нового услыхал на этом обеде Воин Андреевич. «Медлить нельзя, – решил он. – Надо спешить скорее навстречу Невельскому. Ну и досталось мне за адмирала!» Явился боцман и доложил, что все готово. «Какое счастье, что посланцем от адмирала явился именно Римский-Корсаков, – думала Екатерина Ивановна. – Что было бы, если бы явился кто-то вроде Буссэ? Но того Геннадий взял в железные рукавицы. Да, Воин Андреевич все понял». – Так будет война, Воин Андреевич? – Очень возможно! А как здесь в таком случае? – В случае войны мы все уходим в Николаевский пост. У нас есть об этом распоряжение Геннадия Ивановича. Разве доктор не сказал вам? – Нет. – Геннадий Иванович говорит, что рано или поздно война будет. Но он говорит: Турция – предлог, а проливы – глупость. Он уверяет, что где-то на юге тут есть свой Босфор и свой Золотой Рог[*] и что эти проливы будут наши, но не в Турции, где они нам не нужны, а здесь, на Востоке, где они необходимы нам и для России важней.
[*]…свой Босфор и свой Золотой Рог, – Босфор – пролив между Черным и Средиземным морями, Золотой Рог – гавань в Стамбуле. Здесь имеется в виду открытый Г. И. Невельским пролив между материком и Сахалином и незамерзающие заливы у корейской границы – открытые позже заливы Петра Великого, Амурский и Уссурийский с бухтой Золотой Рог, на берегах которой впоследствии быт основан г. Владивосток – ныне огромный порт и промышленный город.
Римский-Корсаков поднялся, попрощался с дамами. Они перецеловали его, вышли проводить. По случаю отъезда гостей вся команда отпущена с работы. Опять погода сумрачная. Орлов и матросы собрались на берегу. Едва баркас отошел на два кабельтовых, как все разошлись, видимо по работам. Ветер, окрестные сопки занесло мглой. Залив слегка зашумел, а на море, за островом, настоящий шторм. Слева долго тянулись унылые пески. Ветер становился все сильнее. Пошел дождь. Следовало бы высадиться на берег и ставить палатку. Но Воин Андреевич спешил. Он был как наэлектризован всем, что услыхал от Екатерины Ивановны. Прежде, даже при всем сознании долга, он не рискнул бы переваливать Амур на ночь глядя, когда крепчает ветер и хлещет сильный дождь. Но когда такая женщина переносит в тысячу раз худшее стоически и безропотно, стыдно задерживаться. Казалось, сама родина говорила с ним ее устами. И на шхуну хотелось добраться поскорее. Там сухо, тепло, почувствуешь себя дома, все можно обдумать, записать, впечатления привести в порядок и грога горячего выпить, согреться. «В Хади? В Де-Кастри? С радостью! Пусть адмирал бранится, волосы рвет на себе, отстраняет меня от командования, но я исполню свой долг и все, что я смогу, отдам из своих запасов на новые посты. Задержусь под предлогом, что ищу Невельского. Да, от такой умной и прекрасной женщины куда приятнее получить приказание, чем от адмирала!» А про Невельского всегда какие-то слухи пускают! В чем только его не обвиняли! Вдруг западали снежинки. Ударил сильный порыв ветра, рванувший паруса. Их пришлось рифить[*]. Никогда не думал Воин Андреевич, что мелководный залив может так разыграться. Пошли порядочные волны.
[*]Рифить – уменьшать площадь паруса.
Шли гораздо быстрее, чем сюда. Вот и прошли Лангр. Сразу все вдруг запенилось, загрохотало. Амур бушует, как море. Тяжелый баркас подняло на вершину волны. Смутно виден близкий берег. На нем ни зелени, ни красных скал. Черные, как железные, скалы. Сумрак, мгла. А далеко-далеко за кипящими волнами под сопками другого берега мерцает огонек. Это шхуна. Амур кидает баркас, валит его, плещет, окатывает гребцов и рулевого. Через час начались отмели, но и около них грохочет. За большой отмелью стало тише. Потом опять прошли через волны: видимо, была глубина. Ночью, мокрые до нитки, подошли к шхуне. Тут за большой отмелью совсем тихо.
Чихачев встретил Воина Андреевича. Он узнал в Николаевском посту все новости. Римский-Корсаков обрадовался своей шхуне, своей каюте, переоделся во все сухое. Он собрал офицеров, объявил им, что есть важнейшие соображения, по которым непременно должно искать встречи с Невельским. Шхуна пойдет в Де-Кастри и Хади. «Да, нелегок путь открывателя, – думал он. – Быть моряком-офицером на южном море или плавать между европейскими портами, рисоваться перед женщинами и ухаживать за ними на берегу или, особенно, на пассажирских судах, где флирт неизбежен, – это ли не занятие для бездельников, именующих себя моряками? Ведь на берегу чуть не каждого моряка считают подобной тварью, охочей до удовольствий». Хороший урок дала ему Екатерина Ивановна. «А я со всеми офицерами нашей эскадры до сих пор тоже считал себя чуть ли не героем. Нет, право, полезно на родине побывать после роскошных портов и европейских колоний, и познаешь ты, как еще много и много должен трудиться для того, чтобы сметь называться русским. А матросы довольнешеньки, что побывали в России, у своих, и надолго пошли теперь рассказы в жилой палубе». На другой день под парами к вечеру вышли из лимана. – Обратно по знакомому, как по-писаному, – шутил Воин Андреевич. Холодало. Грозным и черным было море вокруг. Черные, как железные, скалы Татарского берега. Берега расходятся, все шире расступается бурное море, как бы давая полный простор шхуне. На другой день утром Корсаков заметил, что сопки Сахалина ярко-сини, а вершины их белы. Снег в горах. Днем шел дождь со снегом, потом всю ночь валил снег. Утром засияло солнце, было тепло. На прибрежных сопках лес из голых лиственниц, как иглы дикобраза. Вошли в Де-Кастри. Бухта в горах, на сопках все желто. На берегу маленький пост, два бревенчатых домика. Шестеро матросов под начальством фельдшера заканчивают постройку. Фельдшер временно заменяет начальника поста. Он сказал, что Невельской еще не приходил с Сахалина, должен еще зайти в Императорскую. Начальник поста в Де-Кастри, мичман Разградский, которого Чихачев знал по весне и лету прошлого года, уехал по делам через перевал, на озеро Кизи, к своему товарищу Петрову, который строит пост на берегу Амура, у входа в протоку, ведущую к озеру. Николай Матвеевич вспомнил, как явились с «Оливуцы» эти молодцы и как Невельской огорошил их своим приемом, велел спать под елкой. Теперь оба освоились, и Николай Матвеевич с оттенком зависти подумал, что они с успехом обходятся без него. Два важнейших новых поста под командованием этих молодых новичков: Кизи – у Петрова, Де-Кастри – у Разградского. На посту Чихачев встретил знакомцев. – Еткун! Араска! – Колька! Чихачев перецеловался с туземцами и прослезился от радости, забывая в этот час, что он богат, и снова становясь простым человеком. – Ты, Колька, теперь на китобое? – спрашивал Еткун. – Нет. – Че пришел? Иди, Колька, кушать рыбу и матросов своих зови. Это твой капитан? – Да, знакомься. Еткун повел гостей в юрту. – А где Афоня? – спросил Чихачев. – Он оленей завел и живет на озере Чля. Обедает вкусной олениной. Давай, Николай, опять в карты играть. Ты тогда пуговицу у меня неправильно выиграл. Ты сказал, я обманываю? Неверно, ну, давай сыграем. «Неужели это был я?» – думал Чихачев. – Колька у тебя на шхуне? – спрашивал Еткун у Римского-Корсакова. – Он хитрый! Ты с ним в карты не играй, обманет! Нас обманывал, говорил, я пуговицу неправильно выиграл. Вот такую, – подергал гиляк медную на мундире капитана. – Не хочет опять играть! Ты капитан? Играй ты за него. Давай, чего смотришь? У тебя столько пуговиц хороших. У меня Невельской приятель, тоже со мной играл в карты, не обманывал! – А где Чумбока? – Чумбока пошел с Невельским на Сахалин. Он бывал еще давно в Аниве и все там знает. Утром чуть свет Римский-Корсаков, оставив письмо на имя Невельского, отправился к Сахалину за углем. Днем темно, бушует море, грохочет, пенится, временами валит снег, на палубах сугробы, потом хлещет дождь, и все обледеневает. Воин Андреевич подолгу сидел у себя в каюте. Был у него любимый брат, девятилетний Коля[*]. Воин Андреевич писал домой письма из Африки, Индии, Японии, зная, что мальчик станет слушать чтение их с волнением. Коля бредил путешествиями, мечтал побывать в разных странах.
[*]Коля – Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) – известный русский композитор. Учился в Морском корпусе, участвовал в кругосветном плавании.
Римский-Корсаков начал письмо о путешествии в Петровское. Он писал, как на берегу океана посетил единственный пункт, где и не пахнет английским духом, где в тяжелых условиях живет и трудится горсть русских. Каждую строку, он знал, прочтут Коле, и желал, чтобы тот гордился, что он русский, чтобы с детства чувствовал величие России и знал о великих целях, что стоят перед его народом. Коля – необыкновенный мальчик. У него редкие способности к музыке. Воин желал дать его воображению пищу, которой ум Коли так жаждал. Он знал, что его письмо произведет сильное впечатление на мальчика. Пусть узнает, как после Англии, Индии и Японии рады были мы нашей суровой родине, бревенчатому селению, добрым и отважным людям и много прелести нашли в маленьком Петровском. Воин знавал немало умных, даже, казалось бы, гениальных, смышленых, способных ребят, ум которых жадно впитывал те интересы, которыми жили взрослые, окружающие их. Но из них получались чиновники или дельцы. Воин Андреевич не желал брату своему Коле такой участи. Оставив на Сахалине Чихачева с матросами, чтобы заготовляли уголь, шхуна «Восток» снова вернулась в Де-Кастри. Оказалось, что Невельской высадился и сразу поехал на Амур. Он спешил до ледостава спуститься по Амуру. Оставил письмо Римскому-Корсакову с кратким описанием того, как занят был Сахалин. И другое письмо, для адмирала. Торопился, как всегда, очень сожалел, что не повидал Воина Андреевича, и очень, очень, благодарил его. Между прочим, сообщал, что на юге Сахалина еще совсем тепло. – Жаль и мне, что не повидал я старого товарища, – говорил Воин Андреевич. – Он как молния сверкающая проносится; энергия его неисчерпаема. Не дай бог, сломится. Бога надо молить, чтобы дал ему силы и здоровье. Шхуна снова шла к Сахалину. Вдали отчетливо видны горы в снегу. Теперь за углем, а потом – в Хади, надо узнать, как просит Геннадий Иванович, прибыл ли на зимовку транспорт «Иртыш» и остался ли там «Николай» – большое судно, принадлежащее Компании. «А потом – на юг! В Японию! С отчетом адмиралу! Представлю ему все. Опять, верно, придется мне сидеть на дипломатических переговорах!» Пока вокруг ветер, холод, опять снег несет с дождем, сопки на обоих берегах в снегу, леса голы, листья опали. Грозная, родная осень. И уж не за горами зима.
|