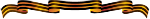– Ты, Федосеич, не жалеешь, что бросил участок? – спрашивал Егор у матроса, приехавшего вечером проведать, как живет его дочь. Приезды старика всегда как праздник. И нынче долго засиделись. – Так не жалко тебе? Они берут тут хорошо… – Нет, не жалко! – отвечал Федосеич. – Чего жалеть! – добавил он, пожимая плечами. – Все равно… А они и так меня кормят чумизой, ханьшин мне дают. Я им фанзу караулю, поварничаю, я умею по-ихнему: пампушки на пару приготовлю, рис сварю… Уже было поздно. Федосеич перекинул ноги через скамейку прочь от стола и закурил. Это означало, что собирался домой. Катя сидела за столом и с любопытством на него глядела. Если бы он всегда был так трезв. И рубаха на нем опять проносилась… Надо поехать завтра и все ему перестирать, перечинить. – Ну, оставайся, сват, у нас в артели! – предложил Егор. – Нет. Мы потому и дружны с тобой, сват, что редко видимся… Я поехал. Прощай, Катюшка! – Тятя, я завтра приеду. – Прощай, сынок! – сказал старик Ваське. – Скучно ведь тебе с китайцами. А у нас артель, все свои… Егору хотелось бы вытянуть матроса как из болота. Ему казалось, что живет он там плохо. – Нет, я к ним привык. Я в порту Кантоне у них был. Не раз. В Шанхае был. Еще Шанхая такого, как теперь, не было, только кое-где большие дома строились. У нас был лейтенант Римский-Корсаков, они его отравили хлебом, и он мучился сильно. Они шли по городу с мичманом и пробовали все. А другой лейтенант был с ним и помер от этого хлеба. Брат Екатерины Ивановны Невельской, жены адмирала. Я Катьку в ее честь назвал! Да, видишь, уж обеднели мы… Катерины Ивановны брат родной, еще мальчиком, служил у нас на конверте. – Чего же ты с имя в артель пошел? Они и тебя отравят… – сказала Татьяна. – Они видят, я сам себя травлю… Таких никто не травит, а хвалят все, мол, хороший ты народ, богатырь! Они не перечат мне. Пока у них силы нет, они старательные. А наберутся силы, тогда себя проявят… У них разный хлеб делают, катают такую здоровую раскатку, вроде на калачи, как кишка. Оказывается, на лапшу. Егор подумал, что, видно, все же не сладко Федосеичу. – Когда захочешь, приходи. – Спасибо. Китайцы мне долю выделяют. У них ведь тоже разные люди, как у нас. «Они со мной чужие, и мне жить с ними не обидно! – полагал Федосеич. – А тут если меня попрекнут?» А китайцы сами опиум курят. – У них тут есть? – Как же! Хороший народ! Пьяниц не любят, а сами искурятся, высохнут, кожа станет как пергамент… Ну, я поехал. Прощай, моя Катюша, прощай, сынок, Василь Егорыч… Ну, Васька, Васька. Тебе бы во флот! Туда больше идут такие белые, с русой головой. Ты бы был матрос? Дослужился бы… Вот были мы в Южной Америке. Я тебе расскажу когда-нибудь… Приезжай ко мне на китайский лагерь. – А Калифорния? – спросил Вася. – А вот она, – показал Федосеич обеими руками. – Это все я видел прежде. Еще хуже! Золотая лихорадка называется… Только там товару-у! И людей не жалеют! Там не промахнись. Дети сироты остались во Франции, сейчас их привезли в Калифорнию, стали ими торговать. И каждого запутают, если кто не варганит. И закон тут же есть, и порядок. Называется свобода, и все грабят. – Почему же французы детей продали? Там ведь нет крепостного? – Революция была. Люди поднялись на восстание, свергать власть и богатых. Их, видно, всех убили, восставших. Тоже ищут справедливость, не хотят удавки. Сирот много осталось. Их закупили и повезли в Америку. – У нас на старых местах в помещичьих деревнях торговали детьми. – Да, это верно. Мы как-то на свое не жалуемся, упускаем. Генерал был Муравьев, всегда говорил нам, мол, что вы всех хотите учить и просвещать – научат, мол, и без нас, сами учитесь, а то темней всех сами, а все лезем других спасать и учить… Дураки! – Не велят думать про себя, – сказал Егор. Он любил рассказы Федосеича и его приезды. Утром Ксеня выдавала свежий хлеб из пекарни. Она слышала вчера, что у Кузнецовых о чем-то говорили, но подбежать послушать не могла, нельзя было бросить печь. Сегодня, когда Федосеич приехал за хлебом, она не смотрела на него, помня его нахальство. * * * Батрак Микешка возвратился на свой берег и шел у всех на виду, отколупывая по кусочку от красноватого поджаристого каравая и уписывая за обе щеки. – Что, Микешка? – спросил его Сапогов. – Хлеб! – ответил парень и показал краюху. Микеха кивнул на дымившуюся трубу пекарни. Вырос он сиротой в городе, попал в батраки, ел всегда черный хлеб, а нынче ему дали свежий каравай и не попрекнули. Работал он в артели с Никитой, с Очкастым, Терешкой, Котяем Овчинниковым и сектантом Кораблевым. Отчисления обществу шли с каждого. Ни думал, ни гадал парень получить даром хлеб.
Микеха пришел в шахту, отломил кусок и дал Кораблеву. Сектант варил себе пищу отдельно от артели и ел отдельно. – В рот не возьму хлеба этого! – сказал ему Кораблев. Все покосились на изувера. Работник он был хороший, но его не любили. – В блуде сын его живет… Блудный хлеб! – пояснил Кораблев. – Блуд! – Егор сказал, чтобы приехали с мешком на артель. «Они это затеяли не зря!» – подумал Никита. С мешком хлеба на плече шагал Федосеич. – Пойду Азию к хлебу на дрожжах приучать! – весело кивнул он артельщикам и зашагал медвежьими лапами старого моряка, временами прыгая с рытвины на рытвину. – Выпить бы достать! – сказал ему Очкастый, стоя с лопатой. – Это завсегда можно… Не вредит… – Я, может, достану банчок спирту и приду. – Приходи. – У меня за тебя болит душа! Что же Егор тебя не берет в свою артель? – Он звал… Сегодня еще звал… – А что же ты? – Я не хочу сам. Там дочь меня укорять будет, пить не даст. – Конечно, она гордость имеет. А это, что же, сама живет, а бросила отца китайцам! Выгнала она тебя! А Егор тоже хорош. А все говорят, что справедливый… – Да он-то честный… Китайцы мне долю выделили. Они со мной чужие, мне с ними жить не обидно. «Че, мол, старик, твоя спи?» – спросят. А мне все равно… А Егор меня спросил бы: че, мол, ты опять спишь? Пьяный напился? Я бы обиделся. А китайцы – они сами опиум курят. – А когда же свадьба? – спросил Советник. – Или не будет? Федосеич мутно смотрел на него и не отвечал. Он икнул. Очкастый улыбнулся. – Ну, я пошел, – сказал он. – Никита ждет! Солнце заглянуло под травянистый навес и жарило прямо в лицо Федосеичу. Мошка роилась, и матрос ворочался, то закрываясь во сне старой рубахой, то ее сбрасывая, когда припекало. Катя приехала и живо взялась за ведра. Разбудила отца и болтала с ним. Она собрала отцовское старье и пошла стирать. Все высохло быстро. Катя чинила его рубаху и говорила, что сошьет новую. Она купила ему на пиджак и на рубаху. Пришли китайцы, и один из них, огромного роста и носатый, сказал Кате: – Шибко красива! У Федосеича сосало под ложечкой. Он вспомнил, что Очкастый обещал принести банку спирта. Ему казалось, что он уж неделю не пил, хотелось выпить совсем немного, так себе, побаловаться. Китайцы поели рис и лапшу и разошлись. Катя сказала отцу, что пришьет новые пуговицы на куртку. – Ну, заходи! – сказал вдруг отец. Катя оглянулась. Широко улыбаясь, с ней поздоровался Славный Дяденька. На миг только пожалел Федосеич, что дочь опять увидит отца своего пьяным. Старик быстро захмелел. Толстячок с мягкими руками все улыбался Кате. Лицо его как мятая подушка, казалось дряблым, тяжелые щеки в угрях кажутся дырявыми, как пемза. Когда он снимал очки, глаза оказывались мутными и колючими, немного навыкате, чего за очками не было заметно. – Бывают разжалованные чиновники? – спросила Катя. Толстяк затряс головой. Он поднял плечи и не знал, что ответить. – Наверно, бывают! – Купцы банкроты! – пробормотал Федосеич. – Офицеров разжалуют. Наверно, и у ярыг чин отбирают, если провиноватятся. Федосеич свалился и быстро уснул. Катя укутала его. Повесила куртку, наставила над постелью отца легкий бязевый полог, подоткнула края под кошму, на которой он лежал. – Посиди! – попросил Толстяк. – Ты доставляешь мне наслаждение своим присутствием… Катя знала, что Очкастый умный человек и хороший рассказчик. От него много нового она слыхала. Он всегда приветливый и веселый. Катя присела и захихикала от удовольствия. Она никогда и слов таких не слыхала. Очкастый погладил ее по руке. – Катюша! Какое у тебя красивое имя! Екатерина! Императорское имя! – Большое спасибо вам! Ну, мне пора… – Я тебя провожу! Я бы отсыпал тебе золота! Много золота! Они вышли из ограды, окружавшей фанзу. Отойдя подальше, он встал на тропе, не пуская Катю. – Катя! – воскликнул он. На миг в уме Кати мелькнуло какое-то смутное подозрение. Она насупилась. – Я тебе давно хочу сказать: старики Кузнецовы не такие люди, как ты думаешь. Если бы я был молод, я бы тебя свез в город, и ты жила бы у меня как царица, ходила бы в бархате и ела на серебре. На нее сильно пахнуло водкой. Запах этот не был отвратительным для нее. Было в нем даже что-то родное, свое, привычное. Ей стало жаль Советника, он показался ей слабым и хвастливым. – Пустите-ка, я пойду! – сказала она. – Ну, что ты надулась? У тебя ведь скоро свадьба? Так уж лучше до твоей свадьбы приди ко мне и уйдешь с приданым! Я же знаю, ты хочешь поклонения себе! Ты ветреная девчонка! Конечно, Василий – сын президента! Сын! Но никто не узнает! Даже Камбала. А отец твой… – Отец? – спросила она с удивлением. Катя побежала. Очкастый снял очки, громко хмыкнул, отхаркнул и закрыл лицо руками, потом он посмотрел ей вслед из-под ладони. – Ну, что ты к ней вяжешься? – раздался из палатки густой бас Дяди. – А что тебе? – Я тебя спрошу «что»! – С тех пор как ты перестал управлять прииском, ты все забыл! Ты только хочешь вернуть свое богатство и мчаться в Иркутск. Ты забываешь, кем ты был. – Девка просватана, куда ты лезешь! Василий ее любит! А кто ты ей? – Мне хочется сказать: «Ппрезидент! Ты умный. Так я твою невестку купил! Кто устоит в мире против золота?» – Кому ты это говоришь? Дядя был управителем частных приисков купца Фейгина на Лене и проворовался. Теперь он ждал из Иркутска своих друзей. Они должны были привезти игральные карты, лекарства и врачебные инструменты. – Ты спишь и видишь, как бы отомстить Фейгину, – сказал Советник, – и уже не помнишь, что был когда-то мужчиной. – Идиот! – ответил Дядя. – Иди лучше к Анфиске. Там твое место. Она тебя выпотрошит… – Ты еще не знаешь, где мое место! – сказал Толстяк с пьяной заносчивостью. * * * Катя вернулась домой. Егор спросил: – Советник был у отца? Катя взглянула испуганно. Многие люди, проникавшие на прииск, не правились Егору. У них было право рубить лес и мыть пески. Не было причины гнать их прочь, запретить им входить в общество. Он знал, что должен быть справедливым для всех. Он ждал, что вот-вот что-то может случиться. Но из городских многие были несчастны и сломлены жизнью. Егор пускал их, чтобы могли поправиться, опомниться и вернуться к привычной для них жизни с новыми силами.
|