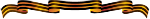Погода предвещала бурную зиму с жестокими морозными ветрами. Теплая, затяжная осень перемежалась злыми ненастьями. Пронесся небывалый тайфун, полосами лес повалился вокруг Уральского. Перелегли через речку Додьгу или уткнулись в воду по самые вершины ильмы, пробковые дубы и клены, и не ветер, а вода шумела в их еще зеленых ветвях. Когда-то, прибыв сюда и войдя впервые в тайгу, глядя на эти деревья, удивлялись крестьяне. – Какие дубы повалились! – рассказывал Федор Кузнецов, возвратившись с заимки, – когда еще молодые такими вырастут. Местами тучные лесины с поднятыми корнями прилегли на сучья ближних крепких еще деревьев. Лес, которому бы еще стоять и жить, прочесала буря и вырвала все, что удалось. Мостами упали совсем молодые кедры, а уцелели могучие старики. Пароходы еще ходили. В низовьях стояла хорошая погода. Кузнецовы перегнали скот на заимку. Коровы мычали зло, видя дорогу, загороженную буревалом. Их обгоняли целиной, по мелкой чаще. Кета прошла. Ночью кто-то взошел на крыльцо, потоптался, видимо, почистил сапоги, прошел сени, распахнул незапертую дверь в избу, прошел через кухню, зная куда идти. Егор не спал. По смутным очертаниям фигуры, он узнал Василия и почувствовал, что-то случилось. Васька напряжен, словно в страхе. – Отец? – неуверенно спросил он. – Тут я, – спокойно ответил Егор. Сын прошел в густую тьму к кровати, на которой лежал отец. Егор, почти не видя его теперь, почувствовал, что страх и напряжение покинули Ваську, и словно невидимые лучи сыновьего тепла обдали его душу. Быстро спрыгнула с кровати мучившаяся весь вечер ногами Наталья. – Что случилось? – спросил отец. – Разогнали. – И слава богу! – сказала мать и стала чиркать спичками. – Илья убит, хотел бежать. Плыл через Амур, солдат стрелял его, – сказал Василий. – Я пиджачок его привез… – Боже мой! – ужаснулась Наталья. – Кто, ты говоришь, кто убит? – спросил из последней комнаты дедушка Кондрат и стал подыматься. Загорелась лампа. Наталья подошла к Васе и посмотрела в его лицо, оно изможденное и грязное, словно жизнь обезобразила его до неузнаваемости. – Катя где? – с потаенным страхом и нетерпением спросила она. – Идут… – Вы не одни? – спросил отец. Он поднялся и, жалея, горько поцеловал Василия. – Как ты? – спросил сын. – Стою! – Полиции нет? – спросил Василий с беспокойством. – Что делать! Пусть все идут, – ответил Егор понимающе. Василий вышел на улицу и негромко присвистнул. В избу завалилась целая толпа оборванцев. – Ур-ра, президент жив! – закричал Студент, подымая ружье. – Здорово, сват! – прохрипел Федосеич. – Старый дуб, долго пролежал в своей бухте? – Мы очумели, президент, озверели, но… – воскликнул Студент. Последние дни были самыми счастливыми в его жизни. – Мыться? Баню топить? – растерянно спросила Наталья. Где-то послышались женские голоса. – Утром – на заимку, – сказал Егор, – потом решим, что делать. – Мы общественное золото привезли, – сказал Василий. – Че у вас творится? – пригибаясь, в низких дверях кухни стоял Петрован. – Вернулись? Заразы! На заимках у нас не то что артель, роту упрятать можно… – К Сашке, может? – Нет, не надо. На заимке лодки есть, – ответил Егор. – Погиб Илья… В грязных шелковых шляпах и в ватниках поверх городских жакетов со стоячими воротниками появились с чемоданом и мешком Ксенька и Катерина. На прииск приезжала портниха и нашила золотишницам модных нарядов. Была там и шляпница. – Маманя, че топить? – сразу спросила Катерина, обхватив Наталью за шею и целуя ее. – Уж топлю, доченька! – ласково ответила Наталья. – Зачем на заимку? Айда ко мне, – сказал Петрован. – У меня изба новая, три комнаты… – Отец че-то у нас боязливый стал, – говорил он, уводя по невидимой тропинке гостей через траву и рытвины. * * * Ночью Катя всех перепугала в доме Егора. Она вскочила и стала истерически рыдать, потом кинулась к Наталье, залезла под одеяло, уткнулась ей в грудь. Василий вскочил, подбежал босой, спросонья не разобрав, что случилось. – Что с тобой? – спросил он жену. – Не трогай! – закричала Катька. – Убью топором! Я всех вас покрошу! – кричала она и в страхе прижималась к Наталье, стараясь спрятаться к ней под одеяло с головой. – Ты ее не тронь! – прикрикнула на сына мать и закашлялась. Катя стихла. Через некоторое время она сказала: – Мама, зачем вы его так… – она поплакала, заслезив Наталье грудь рубахи, и уснула. Утром Василий сказал Татьяне: – Я привез его вещи… Иди отнеси Дуне. – А че же сам? – спросила Таня. Васька не знал, что сказать. – Иди, гляди ей в глаза, – сказала Катя. – Вот так! Теперь уж не стыдно! – Вместе пойдем, – сказала Татьяна. – Страшно, брат! Она тревожится. Тут пароход приходил, и нам сказали, что кого-то убили полицейские… А из Тамбовки приехала она такая повеселевшая, свеженькая, как грибок. Вася и Татьяна зашли в дом молодых Бормотовых. Дуня разливала горячее молоко детям, усевшимся за стол. Она не видела мешка в руках Василия. Ей не хотелось смотреть на него. Василий заметил, что она посвежела лицом и стала тонкой и гибкой, как в девичестве. Но показалась она Васе невеселой. – Вот его вещи! – сказал Василий. Дуня схватилась за голову и глянула на Ваську, выкатив глаза, лицо ее перекосило в таком ужасе, словно на нее навели дуло, и она пятилась, ожидая выстрела. Дети расплескали молоко. Старший кинулся, к матери и со злом оттолкнул Василия. – Не трогай маму! – Уходи, Василий! – сказала Таня, видя, что зря привела его. Дуня вдруг утихла, словно что-то вспомнив. Она закрыла глаза кулаками, потом чуть слышно молвила: – Это я его убила… Она встала, развязала мешок, достала пиджак Ильи, сморщенный и измытый в воде и высушенный товарищами на солнце, увидела навитые на пуговице свои волосы. Горько скривилась и села, повесив голову.
Таня молча обняла ее… * * * Отец Алексей отслужил панихиду по Илье. В церковь съехались крестьяне и гольды со всех окрестных селений. Дуня с детьми стояла сумрачная и замкнутая. Проблеском серебра сверкали ее пышные волосы. «Раненько бы!» – подумал Егор. – Ты не знаешь, где Бердышов? – спросил Егор на другой день, зайдя к ней в избу. – Не знаю, – ответила Дуня. Она обняла детей за плечи и, помолчав, добавила сухо: – Наверное, в городе… * * * Егор, начавший было ходить, в эти дни опять слег. Он был слаб и не мог поехать в город. Василий послал телеграммы Бердышову и Барабанову, получил от них ответы и решил ехать в город сам, распутывать все дела, постараться выручить людей, а если придется, то и отвечать за себя и за отца. Егор соглашался. – Надо ехать! – сказал он сыну. – Поеду к богачам! – ответил Василий. – К тем, ради кого мы убивали друг друга и сходим с ума! – Ты рос у него на руках! – сказала мать. – Он тебя не выдаст. Поезжай, выручи людей и отца, раз он сам не может. Да он и не схитрит, а ты уж уловчись, пособи отцу с матерью. Видишь, мы теперь… – Я выздоровлю и приеду на суд, – сказал Егор. – Дело мое, я открыл и я отвечу. – Что ты, отец! – возразил Вася. – Перед кем ты будешь говорить? Перед Телятевым? Перед Оломовым? И где! В каторжном, пропойном, развалившемся Николаевске, который только один ты еще поддержал на год-два! – Послушай, Василий! Я – отец. И я строго тебе говорю: скажи Ивану в городе, что я отвечу сам. Скажи это и Телятеву, и Барсукову. Я вот поправлюсь и сам пойду в тюрьму. – Я скажу… Но зря это. Там глухо, пьяно. Пусто. И начинать подвиги надо не здесь. – А Иван хочет начинать дело здесь. – Для него тут есть золото. «Что же ты хочешь, чтобы за меня судили мальчишек-студентов или безграмотных моих товарищей? Пусть, сын, никто об этом не узнает в пьяном городе. Но ты узнаешь, какой у тебя был отец. И я буду знать себя. Это ведь не обязательно прокричать народу. Человек живет только раз и сам себе должен ответить» – так думал Егор. Васька понурился, сбитый с толку. Отец не хотел, видно, идти на врага в обход и хитростью, как теперь было принято. Васька почувствовал себя низким по сравнению с ним. – А если никого не тронут и всех отпустят, тогда и я не приеду, – сказал Егор. У Васьки отлегло на душе. Оказывается, отец не без головы со своей честностью. Наталья стряпала пироги. Катя старалась помогать ей и рассказывала, волнуясь, бесконечные истории о разных приключениях на приисках, вновь как бы переживая все и торопясь так, что язык ее иногда заплетался. Наталья услышала, что на прииске после ухода отряда остались полицейские, с гиляком, которого имя не вспомнишь. Видя, что никого нет, они поснимали форму и стали тоже мыть золото. А Родион Шишкин, не зная, что стряслось и что всех разогнали, вдруг заявился, вернулся с тамбовцами на прииск. Полицейские не пускали их, хотели задержать. К ним к тому времени приехал урядник Попов и тоже мыл. Тамбовцы решили, что вместо Гаврюшки поставили каких-то самозванцев и что те хотят с них содрать и поэтому не пускают. Родион и его товарищи стали ломиться силой. Дело кончилось дракой. Полицейских избили прежде, чем все разъяснилось. – Арестовать-то уж никого они не могли. Сами хищники оказались, попалась полиция. Так и мыл Родион с ними рядом. Да мы когда поехали домой, то и тамбовцы подались с нами… Побоялись без Василь Егорыча оставаться. Все же полицейские могли их перебить… Так мы и шли. Студент говорил, мол, свободные люди, идем вольным отрядом. А Родион Шишкин сказал: «Какой же свободный, когда ото всех прячемся!» Алешка сидел за столом и старательно переписывал из книжки в тетрадь. – А где же вы такие кофты и платки купили? – спросила Наталья. – Все привезли. Это какие-то моды заведены. Да и своя портниха была. И я уже рюшки делать научилась. Эту без полей шляпку в сборку могу сама сделать, это нехитро. Портниха говорила, стриженым такие хорошо носить. – Бог ты мой! Стриженым! – Да. Говорила, блондинкам идет очень этот цвет! Приискателки кофт пошили со стоячими воротниками. Шляпки носили вместо платков. Другая с кайлой идет в шляпке, стриженная как парень, молодка. А это девка! В открытую дверь слышно было, как на крыльцо Ксенька спросила Студента: – И куда же ты решил? – К родным в Благовещенск. – Опять, как малое дите, на чужие хлеба! – А ты куда? – Куда я! Не с тобой же! У меня восемь душ! Хлеба просят, а мать с городским таскается. Ломов места себе не находит. Он и мужик-то настоящий, не то что ты… – И тебе совершенно не жалко расставаться? – А тебе будто жалко? Какая жалость! Сам же учил, семья не нужна, жить всем свободно, отцов свергнуть, жен ревнивых тоже! Открыли философию, а это уж давно известно. Разврат называется. – Я, знаешь, Ксеня… – Ты хоть дверь-то прикрой, а то люди слышат… А монахи допрежь тебя… Через некоторое время вошел расстроенный Студент. Он посидел рядом с Алешкой, глядя, как он пишет. Спросил у Кати: – А где Васька? – Василь Егорыч? – переспросила Катя, – Они вон в той комнате. В зальце. Собираются. – Я замечаю, – заговорил Студент, заходя в зальце, – что крестьяне знают все философские и нравственные теории, которые проповедуют образованные люди, но по-своему. Я убеждаюсь, что не существует монополии образованности. Не только через книги. Быстро вошла Ксения. – Коряга, иди-ка живо! – крикнула она. – Вон пароход вышел из-за мыса. К обеду тут будет. Собирай всех, мотайте, заразы, на заимку…
|