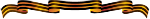В легком утреннем тумане проступили три голые мачты. За длинным лесистым островком открывался город. В цвет воде и туману на дальнем рейде слабо дымил большой океанский пароход. На высоком берегу маячили квадраты каких-то строений. Под берегом старый знакомец казенный пароход «Лиман», с набухшими боками, сегодня не дымил. Посередине реки виднелся трехмачтовый военный корабль с трубой под всеми парусами. Судно уже тронулось и тихо скользило по гладкой реке. «В далекое плавание!» – подумал Василий.
Утро было исполнено свежести, спокойствия и тишины, вид реки и гор, украшенный тонкими видениями мачтовых судов, как бы замер. «Море близко!» – подумал Вася. Он смотрел туда, где река расступалась все шире, ниже города мыс от мыса отходили все дальше. А между ними лишь небо и вода. Когда Василий вернулся с прииска в Уральское после полутора недель подъема против воды в ветер и непогоду, он так измок, измерзся и устал, что ему казалось, он никогда в жизни не захочет больше подходить к воде и станет приучаться к берегу. Но сейчас, при виде далекого голубого горизонта, он почувствовал, что где-то тут близко выход в мир. Вид был хорош, сулил надежду, что и жизнь тут может быть хороша. Он вспомнил, как мальчишкой попал с гольдами на охоте на высокую сопку, с которой видно было море, и точно такое же чувство охватило его тогда. Пароход дал свисток и пошел прямо на город. Застроенный берег расширялся, тихо подплывал к пароходу, как бы норовя окружить его толпой домов, старых и свежих амбаров и пристаней со множеством лодок, халок и барж. Где-то раздавались сильные удары по железу, видно клепали паровой котел в затоне. За полуостровом виднелись два небольших парохода у причалов. Казалось, что город снова оживал с тех пор, как его обескровили, увезя отсюда все… Прииски уже закрыты, народ разогнан, но еще товары везли по старым заказам, золото из мужицких карманов еще не выкачено, надолго его хватит, и люди еще будут делать дорогие покупки. Отец дал новую жизнь этому городу. Барабанов-отец ждал на мелях берега на тележке, запряженной буланой кобылой. Правя вожжами и понукивая лошадку, он расспросил про Егора и домашние дела. – А Тимоху, кажется, нам не вызволить. Петр Кузьмич Барсуков сюда приехал. Оломов тут. Вцепились крепко, не оторвешь. – И Петр Кузьмич? – удивился Василий. – И он! – А Санка здесь? – прищурившись от солнца и невольно улыбнувшись, спросил Вася про друга детства. – Санка, брат ты мой, калинка, уходит в плаванье. – Куда? – Ты его сам спроси. Он меня не слушает и хочет жить по-своему… Иван Карпыч как раз тут. Он только что вернулся из лимана. Нынче опять огреб капитал, рыбой торговал. У него в Японию – рыба, в Китай – капуста, в Америку – меха, в цареву казну – золото. – Так и воротим к нему, дядя Федор. – Пошто не ко мне? – Дядя Ваня сам просил. Может обидеться. Он всегда приглашает. Прошлый раз у него же останавливался. – Конечно, тогда обидишь! – ответил Федор недружелюбно. – И Банзаровну знаешь? – Как же! А Санка… не в Сан-Франциско ли собрался? – Санка, брат ты мой… Дом у Бердышова окнами на реку, со свежепокрашенным тяжелым забором. На стук лязгнула цепью собака. Мягко открылось высокое окно, и выглянула черная голова пожилой бурятки-экономки. – Здравствуйте, Василиса Банзаровна! – сказал Вася. Барабанов привязал лошадь к коновязи. Дверь распахнулась, мальчик открыл ее и поклонился. По широкой лестнице сбежал Иван. – Че такое? Че случилось? Я только что вернулся. Я это время здесь не был. Я шел сверху и заглянул сюда на день. Получил телеграмму. Че такое? Ни че не понял! Егор живой? Василий спокойно рассказал все. – Отец хочет, чтобы его судили. Сказал, чтобы я объявил об этом здесь. – Зря. Из этого ничего не получится, – сказал Иван. – Что же делать? Я обещал сказать. – Слово Егора – закон. Исполни и объяви, как он просил. Барабанов, полагая, что у Василия найдется рассказать еще кое-что, и что Васька – не Егор, сразу всего не выложит, решил ради своей же пользы и дела лучше уматывать. – У меня еще дела, прости, Иван Карпыч! – Сиди. – Ну мы, люди свои, в одном городе торгуем! – с важностью погладив свою темную бороду, ответил Барабанов. – Всегда встретимся! Прощения просим. Федор опасался, что если начнут все разматывать, то могут добраться и до него. И даже до Телятева. Жаль ему было старого соседа, но, полагал он, все от бога. Не будь он ранен – явился бы сюда, протянул бы сам руки под кандалы и сказал бы: «Я был президентом. Всех освободите! Я один виноват!» Умен он на дело, а честностью не всегда умен, – думал Федор. Он надеялся, что Васька, однако, сладит все лучше его и уж, конечно, не станет зря объявлять, что Егор был президентом. Иван все выслушал. Глаза его заиграли. Ставка, как он почувствовал, была велика, игра в самом разгаре. Как обухом по голове долбануло его, когда дошла весть о гибели Ильи. Он слыхал об этом еще в лимане. Он по привычке притворялся, уверяя Васю, что ничего не знает. – Да, меня тут два года не было. Я ждал, что так все случится. Ивана давно уже поздравляли, что он взял миллион на новом прииске, который разведали для него старатели больше, чем его поисковая партия. Шел слух, что вообще все тайные прииски до последнего времени принадлежали ему, а что теперь он вдруг захотел от них отказаться. Приезжали в лиман старатели, просили его взять прииск, дозволить им не ломать построенные избы. – Я прииск не возьму! – отвечал Иван. Все молили его: «Возьми!» На Бердышова были доносы губернатору и в Петербург, о чем сообщил ему по поручению Корфа приехавший в Николаевск чиновник Барсуков. Бердышов послал мальчика с запиской к Петру Кузьмичу, и тот ответил, что ждет Василия Егорыча вечером. Петр Кузьмич принял сына своего старого знакомца в бывшем губернаторском доме, в комнате, которая заставлена шкафами с книгами. На стенах – шкуры зверей, оружие у окна – аквариум с красными в полвершка рыбками. Здесь жил теперь начальник округа Складовский, женатый на родной сестре Петра Кузьмича. – Боже мой! Ах, ну зачем же беспокоился Егор Кондратьевич! – всплеснул руками Барсуков. Егор послал ему тючок соболей в подарок и такой же жене Складовского. – Ольга, посмотри, какой роскошный тебе подарок! – пошел он показать сестре. Василий засмотрелся на огромную картину. В золотой раме море, горы, белый город под ними, розовый туман и корабли. Немного походило на сегодняшний вид с парохода, но город богаче, большие каменные дома громоздились друг на друга, лодки разъезжали по заливу, судов больше и все было как-то веселей. Но и Николаевск стоял на видном высоком и красивом месте и порадовал Василия.
– Дело серьезное! – заговорил Барсуков, хмурясь. Он встал, прошелся и пересел на другой стул. – Губернатор объявляет решительную борьбу хищникам. – Будьте отцом родным! – сказал Василий. Он почувствовал вдруг фальшь своих слов. Так мог говорить его отец, когда жил еще на старых местах, но не теперь, и ему стало стыдно. Ему ли так говорить, сыну президента таежной республики, мечтающему о социализме. – Что-нибудь постараемся сделать, – сказал Барсуков. Он добавил, что очень сожалеет об убийстве Ильи. – Это само по себе преступление. Человека взяли ни за что… И дернуло его бежать. Почему, зачем он бежал? – Нрава горячего был, – ответил Василий. Он густо покраснел не в силах еще что-то сказать. – Но вы действительно вели разведку от Бердышова? – спросил Барсуков у Василия. – Конечно, мы для него старались. – Как это понять? – Прииск, мы знали, перейдет к нему, – ответил Василий. – Он его заберет запросто. И он, видно, ждал. И мы знали, что не минует. Барсуков не стал дальше расспрашивать. Законы, он сам знал, устарели, негодны для нового края, задерживают его развитие. Он и прежде полагал, что все это не так, как значится на бумаге. Теперь, видя, что самые лучшие из здешних жителей, его знакомцы и их дети, замешаны, он решил окончательно, что надо стать на их сторону. Сделать это, как он полагал, надо умело, не выказывая протеста, а доказательно, законно, пользуя все, что представится возможным. Он сказал себе: дети переселенцев выросли, нельзя запрещать им пользоваться богатствами этой земли. – Что же вы хотите? – спросил он. – Силина винят, как политического. Можем ли мы требовать расследования, – спросил Василий. – Отец хочет приехать и объявиться. – Вы не соизмеряете желанную вами справедливость с тем, что есть на самом деле. У вас свои понятия, но у нас свои, и шутки здесь нельзя шутить! – раздраженно заговорил Барсуков. Вошел японец-слуга и, улыбаясь, сказал: – Приехали Иван Карпыч! – Отправил пароход! – входя, сказал Бердышов. – Надо нам выручить Силина. Вот и все! – сказал Барсуков. – И Сашку! – заметил Василий. Иван не стал поминать о делах. Полчаса прошло в разговорах, которые Василию казались пустыми. – А что же Дуня Бормотова? – вдруг спросил Бердышов. Васька опять покраснел до корней волос и замешался. Иван тряхнул головой, как ошалелый бык, словно отгонял тучу вьющихся слепней. – Она… – сказал Василий, – с детьми… Я ей привез его вещи. Мы нашли его. Собственно, не мы, а гиляки… Похоронили его… Она переменилась очень, но не плачет… Сумрачная… Иван ждал всего самого плохого. Поэтому он без волнения и без жадности, как ему казалось, брал прииск, словно принимал его в наследство. По уходе гостей Барсуков пошел к сестре. Она была в восторге от соболей. Складовский, ездивший за город в крепость, где поставлены новые орудия, вскоре вернулся. Ужинали втроем, и Барсуков рассказывал шурину о семьях Бормотовых и Кузнецовых, и какое теперь там горе. – Какой молодчина молодой Кузнецов! – говорил Петр Кузьмич. – А ведь отцы были нечесаны, в лаптях. А сына можно ввести в любую гостиную. Отец – идеалист, хочет все взять на себя, что было и чего не было. Петр Кузьмич впервые стал объяснять суть дела, как оно ему представлялось. – Они вели разведку от Бердышова, но не могли преградить путь на целую огромную реку старателям. Туда хлынуло крестьянство… Им предстояло ехать в город и все объявить и тогда стать врагами своих же братьев и всяческих свояков. А Бердышова в это время не было, он скитался по Парижу, а потом, кажется, дочь свою, полугольдку, помещал в Петербурге в частную гимназию. А они тут воспользовались древним обычаем старателей и организовали правление, выбрали свою власть, чтобы на прииски не попадали преступники… Их надо было бы поощрять, они в любом государстве были бы великими людьми и о них писали бы в газетах! Можно подозревать их в чем-либо согласно формальным законам, но тогда надо заключать под арест десятки людей и ослаблять многие семьи. Ведь на прииски шли самые здоровые и сильные… – Нет, об этом и речи быть не может! – сказал Складовский. – Но была ли политическая агитация? – Нет, не было. – Вы уверены? – Я совершенно уверен. – Нигде не могут найти доносчика. Пропал без вести. Может, с ним расправились? – Кто же мог знать о доносе? – Не понимаю, как все это получилось… Да, если бы не эти разговоры про социализм!.. Тогда все ушли бы мирно! – отвечал Складовский. – Я полагаю, что можно бы не наказывать, если не было тут политики и если прииск возьмет Бердышов, но надо найти законные основания, чтобы не привлекать их. Я полагаю, они совершенно не виноваты с одной стороны, но с другой стороны, юридически, совершенно виновны, и тут без законов не обойдешься! Тем более что случаи с выборной властью были, и мы даже не арестовывали никого, и это уже прецедент. Почти закон! Наш! – Да, если бы не эти разговоры про социализм! – повторил Складовский. * * * – Планы мне привезли на бересте! Позор, да и только! – восклицал Иван Карпыч. – А где, где моя бумага? Что же это ты, Василий Егорыч? Я столько бумаги вам давал… И все инструменты! – Да я же говорю вам, что лодка перевернулась! Как сами остались живы! – А на Еловом ключе были глубокие шурфы? – спрашивал Иван. – Десяток пробили. Я нашел китайцев, у них контракт закончился в Де-Кастри на казенные работы. А русские не соглашались глубокие шурфы бить… А теперь они разбежались, что я могу с ними сделать. Вы же сами распугали их. У Ивана Карпыча в соседней комнате собрались гости. Китайчонок с косой пронес туда вино и закуску. Бердышов вошел, браня Василия. – Вот дикари! – сказал он, обращаясь к Оломову. – Бумаги у них не было, человека в город не послали! Знакомьтесь, мой управляющий! – Мы уже знакомы! – сказал Оломов, чуть заметно приподымаясь, и подал тяжелую руку Кузнецову. – Мы давно знакомы! – сказал Барсуков. Телятеву дернуло щеку, словно ему задели больной зуб. Что тут ложь и что правда, он не мог понять. Запутывали все или распутывали очень ловко, пока трудно сказать. Он стоял в стороне, у шкафа, и ему страшно было шагнуть или протянуть руку. Он боялся, ему хотелось спрятаться.
«А Васька с характером!» – подумал Иван. Ясно, что уральцы считали Телятева виновником гибели Ильи. Василий повторил, что отец просил его сказать, что он был президентом на прииске, что он один во всем виноват, просит не судить молодых и безграмотных, что он явится в город, как только окрепнет его здоровье, и готов держать ответ. Молодой Кузнецов радостно почувствовал, что никто ничем этим не интересуется и сейчас до его отца никому дела нет. На Ивана обрушились сразу две заботы. У него появился новый прииск, быстрей, чем он предполагал. Погиб Илья. Оба эти происшествия сильно заботили Ивана. Он чувствовал, что еще миллион сам шел в карман… А она говорила: «Если бы ты был беден…» Все делалось наоборот… Казалось бы, и миллиона не жалко… Иван сам себя чувствовал запутанным в свои же дела, как в силки. Всегда он был хозяином дела, он гнал его, а теперь получалось все наоборот, дело гнало его. – Река порожистая, – сказал Василий, – таких больше нет. – Где у вас лодка перевернулась? – спросил Оломов. – На втором пороге, как раз против Сухого Дола, – ответил Василий. Он не врал. Одна лодка там в самом деле перевернулась. Оломов далеко в глубь этого дела не хотел забираться. Бердышов никакой политикой не интересуется, его имя покрывает все грехи и недоразумения, которые неизбежны. Телятев не сумел вовремя разобраться. Может быть, не случайно, – и его придется удалять. «Но арестованных, – полагал Оломов, – надо судить. Часовой по уставу должен был стрелять, он прав». Китайчонок с косой раскладывал ломберный столик. – Хорошего парня я купил! – сказал Иван. – Смышленый! Китайчонок всем улыбался одинаково вежливо. – До сих пор в Китае людьми торгуют! Да и не только там! В гостиной у Ивана в шкафах на полках не книги под стеклом, а руды и самородки. Есть такие самородки, что только взглянешь на желто-бурую громадину и невольно почувствуешь уважение к хозяину и спорить с ним не станешь. Как крепостные орудия, наведенные, со всех сторон, смотрели на Оломова выставленные богатства. – Вообще в своде законов империи нет законов, которые соответствовали бы истинному положению вещей на Дальнем Востоке, – заговорил за картами Барсуков. – Да вот, например, как с китайцами поступать. Если подвести их под положение об иностранцах, прибывающих для временного жительства, то вообще черт знает что получится! – отозвался Оломов. – А мы продаем им билеты на границе по рублю! И все! – Как в театре! – сказал Бердышов и задымил сигарой. – Так мы руководствуемся тут либо прецедентом, либо здравым полицейским смыслом, – продолжал Барсуков. – Мы ждали в свое время, – сказал Оломов, – что в Сибири и на Востоке разовьется здоровый человек и обретет благосостояние. А что получилось? Если в Америке сильно религиозное чувство и вера там основа общества, то у нас в выросшем здесь поколении религиозное чувство ослаблено. Священники приглашаются для исполнения треб, на праздниках церкви полны, но все жалуются, что нет того, что было там… Вот не раз я замечал по вашим намекам, Петр Кузьмич, что вы желали бы ради опыта предоставить поселенцам некоторую свободу. И вот они по три года мыли золото и отчета не давали, и мораль их пала. Да разве возможны все эти поступки, если бы было сознание греха, если уж нет сознания преступления перед законом. Мы ждали, что из них получатся фермеры, а они общину бросили и фермерами не стали. Утром Бердышов послал телеграмму генерал-губернатору в Хабаровку. Через три дня пришел ответ. Генерал просил Барсукова тщательно во всем разобраться, решить все на месте, считая возможным освобождение рабочих и старателей, трудившихся для золотопромышленной компании Бердышова. Одновременно Оломов получил телеграмму, где генерал-губернатор благодарил его за проявленное рвение. * * * У буфета среди хрусталя и фарфора мелькали официанты, стуча рюмками и посудой. В тяжелых канделябрах светло горели свечи. Складковский сохранял общественное собрание во всем блеске с тех пор, как оно было построено при губернаторах. Сегодня здесь играл духовой оркестр моряков. Иван сидел в кресле, обхватив резные ручки из мореного дуба, и щурился, глядя куда-то. – Какая вольная земля! Что вы, господа! Какого развития вы желаете? – твердил про свое подвыпивший Оломов. – Переселенцы посланы сюда не умничать, а хлеб сеять! Рослый, степенный, с мягкими светлыми глазами, сидел напротив него Василий Кузнецов. Он сказал осторожно и твердо: – Золота моют много, но уходит оно контрабандистам… – Я сам золото китайцам продавал, – подхватил Бердышов. А Ваське было легко сегодня на душе. Экономка подушила ему накрахмаленный платок. Дорогой запах! Покпе и Савоське пришлось бы ползать по хребтам за флакон таких духов… И он вспомнил, Катька его ждала, Федосеич поступил в школу сторожем. Старик крепится, не пьет пока. И Василий купил сегодня в модной лавке такие же духи. – Господа, ваш поп попался! Его духовный суд будет судить! – вдруг сказал Телятев. – Целых полтора года тянулось дело. – Поделом! – заметил Оломов. – Это он учил крестьян заниматься хищничеством и проповедовал социализм. Этот поп вылетит теперь с Амура как пробка. Пришли николаевские американцы: Торнтон, бледный и невысокий молодой человек, и толстяк Бутсби. – Мартын Васильевич, знакомься! – сказал Иван. – Мой приятель, Василий Егорыч Кузнецов… Охотник! Отец его на ноге вытянул медведя из берлоги. Сын прошел с отцом пешком через всю Сибирь. – Я тоже охотник! – хлопнул Василия по руке мистер Бутсби. – Я слыхал про вашего отца! Это мой покупатель. Мы знакомы! Здравствуйте, Василий! Завтра ваш товарищ Александр уплывает на шхуне в Америку. Вы знаете это? У Бутсби толстые тугие щеки на узком лице и голубые глаза слегка навыкате. Он не стал поминать, что Василий когда-то купил у него конные грабли. Бердышов заказал дюжину шампанского. – Вы, Иван Карпыч, употребляете английские меры! – сказал Торнтон. – Ваш отец Кон-дра-тье-вич! – весело глянув в лицо Василия, сказал Бутсби и перевел взор на Ивана, как бы сравнивал их. Васька ему больше нравился.
– Мартын не скучает, забыл свой Бостон, – сказал Бердышов. Он поднялся и, разводя руками, притопнул. – Мы с ним камчатскую восьмерку танцевать тут научились. Кто хоть раз амурской воды попил, отсюда не уедет. – Да, да! – Бутсби тоже подскочил и топнул дважды, и они стали обниматься с Бердышовым. – Он открыл богатый прииск! За открывателя, – сказал Иван. – Но что-то там случилось? – спросил Бутсби. – Не успели открыть, как старатели нагрянули! – ответил Кузнецов. – Хищники! – пояснил Оломов. – В хабаровской газете есть статья, – сказал Торнтон, – Кузнецов Василий Егорович, сын поселенца, открыл богатейшие залежи золота. Подпись Корягин. – Это студент из Петербурга, он был летом у нас на приисках. Все валилось из рук Оломова. Час от часу не легче. Студент из Петербурга, на которого было сильное подозрение, теперь писал в газету открыто. А Оломов оказывался в дураках! Барон открыл газету на свою беду! – Он племянник благовещенского губернатора, – сказал Василий. «Возмутительно! – думал Оломов. – Сам генерал-губернатор мешает полиции исполнять долг. Бердышов, вот кто тут хозяин, а не мы! Корф ничего не может и не хочет сделать, он покрывает сам все темные дела Бердышова. Всех заинтересовал золотопромышленник. Добился освобождения преступников, показал себя благодетелем перед народом, заступником. Близорук Корф, сам роет себе яму!» Оломов давно уже не брал взятки и честно служил на высоком посту. Теперь не было никакого смысла в мелких выгодах. Надо было вывести преступников на чистую воду. А все смазали! Такое дело! Провалили! Верное дело! Из-за боязни, что не будет желаемого развития, что ограничат промышленников. Купец сильнее полиции! Утром за Василием заехал на тележке Санка Барабанов. Он вошел, в клетчатых штанах и в шляпе, во двор к Бердышову. – Где же ты был? – воскликнул Васька. – Вещи мои уже на корабле. Едем за Тимохой и за Сашкой. Выпускают их. Васька с Санкой всю дорогу весело разговаривали. Урядник Попов вывел в прокуренную пропускную комнату Тимоху. Силин был бледен, словно обескровлен. Бороденка, скатавшаяся на нарах, походила на клочья пакли. – Васька! – кинулся он к Кузнецову. – А где же Александр? Где Кузнецов? – обратился Василий к уряднику. – Чего еще ждете? – грубо ответил Попов. – Ступайте. – Ждем Кузнецова Александра. – Нет приказания… И нечего ждать! Кони бежали все так же весело. Тимоха слабо расспрашивал о своих, а Васька сидел как пришибленный. Во дворе Бердышова огромные рыжие собаки подбежали к Тимохе и стали недоверчиво обнюхивать его. – Иван все может, – толковал Силин, входя в дом. – Он тут всех кормит, и одевает, и обувает! Я уже наслушался! Перед ним дворяне ходят на цыпочках. Они тут, кроме казенного пайка, ничего не получают. – Ты че, паря, меня страмишь? – вышел Иван из кабинета. – Зараза, мало тебе всыпали! – Сашку не отпустили… – Паря, я уж все узнал, – ответил Иван. – Оломов говорит, что он хунхуз, но теперь они услыхали, что Сашка был политический в Китае. Это ему помогло. Выдавать его не станут в Китай, присудят, говорят, ему два года каторги, а за что – не знают сами… Паря, приходится китайцу за всех отдуваться… Иван знал, что и с прииском еще не все решено, что появятся другие претенденты, генерал-губернатор посоветует поделиться золотоносными площадями. – Так ты хочешь хлопотать за Сашку? Попробуй. Иди сам. Он тебе брат – у тебя право. Они тебе откажут, но не бойся… Даже если бы они и узнали все… Ничего бы не сделали… Все знают комедии Островского, есть купцы-самодуры – творят, что хотят. Но пока меня никто за это не тронет. Между прочим, паря Васька! Ты взялся роль играть, играй до конца. Я там тебя и оставлю управляющим. – Да я не хочу… – Васька! Что ты! Жена твоя будет женой управляющего! Ради одного этого я бы на твоем месте зубами бы все узлы перегрыз! Василий вспомнил Катьку и улыбнулся. – Но не навсегда же… – Какая речь – навсегда. Ты еще мал, со временем меня перегонишь… Это я тебя ставлю для начала карьеры. – Дядя Иван, а как же судьба «кобылки»? Надо всех отпустить. Там задержан Налим. Иначе я не возьмусь управлять. Что же я, получается, предал товарищей? Да и в тебя вера разрушится! – Паря, ты вроде отца. Тот китайца колотил и уехал, а потом еще раз за варежками вернулся. – Без варежек мы руку себе обожжем. Не берусь без варежек! – Да, пожалуй, надо! И для упрочения славы! * * * Начальнику округа накануне пришло от генерал-губернатора из Хабаровки еще одно телеграфное распоряжение. Корф требовал прекратить следствие и арестованных организаторов прииска освободить впредь до особых распоряжений. – Телеграмма какая-то странная. Видимо, Корфу причудилось что-нибудь, – полагал Оломов. Он сказал Складовскому, что напрасно генерал уступает капиталисту. «Черт знает что! В конце концов честному полицейскому чиновнику переходят дорогу и заставляют прекратить дело!» – Корф зависит от Бердышова! – сказал Оломов в досаде. – Почему? – испугался Складовский. Сам он тоже зависел. Что же еще оставалось ему. Складовский мог только желать, чтобы Бердышов поскорей уехал из его округи и взял бы субсидии и подряды на постройку владивостокских портовых и крепостных сооружений, как ходили слухи. – Птичка вылетела, надо было раньше давить. Упустили мы! – объяснил Оломов. – Теперь уж ничего не сделаешь. Корфу нужны капиталисты, и Бердышов это чует! Доложили о приходе управляющего бердышовским прииском. – Я приехал с покорной просьбой, ваше высокопревосходительство и ваше высокоблагородие, просить за моего нареченного брата… – заговорил Василий. – Ваш отец, скажите, на самом деле был президентом? – вдруг спросил Оломов. – Какое это имеет теперь значение? – перебил его Складовский. – Отец приехал к сыну. Так? – Совершенно верно, ваше… – Там масса старателей. Кузнецов – известная личность. – Началось с того, что к нему стали все обращаться, чтобы рассудил! – добавил Василий. – И сами же стали звать его в шутку президентом. Может быть, даже был сход. Это мелочь, пустяки! От этого до демократического строя еще очень далеко… А столбы у вас там поставлены?
– Да, как же… Место застолблено, вся Кузнецовская сторона теперь за Бердышовым. И полиция ведь там теперь моет… – Как это полиция моет? – подскочил в кресле Оломов. – А брата вашего мы пока не можем освободить, – сказал Складовский. Оломов полагал, что если Сашка и Камбала одно лицо, то через него по крайней мере можно узнать, куда делся доносчик. Тогда все можно будет начинать сначала. Жаль, что придется путать жандармерию! – Мы знаем, что он политический преступник, но не против нашего государя, а против богдыхана, участвовал в движении, – сказал Оломов. – Может быть, он некоторое время проведет за решеткой… – Так ведь китайская политика не наша! – возразил Василий. Он простился и пошел к Барсукову. Тот старался успокоить его, сказал, что Сашка только формально будет задержан на некоторое время и что его освободят, но хлопотать не надо и ждать не надо. – Что делать? – Мне кажется, Оломову просто неудобно от всего отступиться и он делает вид, что не уступает Ивану. Со временем все успокоится и забудется. Может быть, Оломов опасается сам, если замешана политика… * * * Тихий осенний день. Сопки уже совсем пожелтели, и над городом, по высокому хребту, среди светлых пятен черней проступают кедрачи. Между земляпок и лачуг, настроенных и нарытых городской беднотой, на вешалах и под крышами сушится юкола. На изгороди развешен невод, словно кетовая ловушка – заездок расставлена на берегу, и опять весь огород с перекопанными осенними грядками, кажется, поймали в Амуре и вытащили. Кое-где остались сухие стручки бобов на стеблях. Бабы в ватных куртках докапывают лопатами картошку. На чьем-то большом огороде двое арестантов с тузами на халатах руками нагребают картошку в тачку. «А вблизи – не город, а ерунда! – думает Василий. – И хлама много. И место красивое!» Ему как-то обидно было, что на его родном Амуре нет настоящего города у самого входа в океан: «На этом бы высоком берегу построить бы!» У американцев длинный деревянный дом, обшитый дощечками в елочку и покрашенный в зеленую краску. Во дворе под навесами стоят ящики с плугами, предназначенные для отправки в Благовещенск. – Это не нашей фирмы! – сказал Торнтон. – Мы исполняем поручение Мак-Кормика. – Пойдем поглядим, как мои меха отправляют в Америку, – сказал Бердышов. – Гляди, вот стоит шхуна. Они ее набивают моими мехами! Но самые лучшие я отправляю не только к ним. Выдры – в Китай, на курмы генералам. Там они ценятся дороже всех мехов. Но и им даю сортовые. Бутсби, увидев Василия, схватил его за плечи и стал трясти. – О-о! Очень рад! Он повел гостей в магазин и усадил их на стулья. Тут были винчестеры, револьверы, музыкальные шкатулки, шерстяные и бумажные ткани, консервы, посуда и кожи, такелаж для шлюпок, пилы и разные инструменты, стопы бумаги и разная обувь. От множества товаров в магазине было глухо, как в ветвях старой ели. – Я в эту лавку сколько пушнины перетаскал! – говорил Иван, покуривая сигару. Он сидел, развалясь в мягком и глубоком кресле, которое продавлено было многочисленными покупателями. – Вот это и есть заветный магазин, откуда сукно с жирафами. А вот стоит пароход, – приподымаясь, показал Иван сигарой в узорчатое окно коттеджа на бледную реку, – пришел из Америки, привез товары. Они за зиму все распродадут, набьют тюки пушниной и отправят к себе в Америку. А купцы развезут товары по Амуру. Побрякушки тоже… Их спиртом мы гольдов спаиваем! Бутсби, казалось, был привычен к насмешкам Бердышова. Иван приезжал в этот магазин молодым человеком, еще небогатым и так же всегда подшучивал. Бутсби всегда был радушен с ним. Он не переменился после того, как Иван съездил в Калифорнию, не пользуясь услугами никого из знакомых иностранцев. Он там был довольно долго, быстро «схватил» язык и бегло разговаривал. Бутсби почувствовал, что этот бывший поставщик мехов перегонял его. У него уже тогда были свои прииски. А когда-то Бутсби сомневался, сможет ли Бердышов соперничать с богатыми, опытными в торговле фирмами. В соседней комнате за открытой дверью Торнтон уже щелкал на счетах. Иван, хлопнув Бутсби по плечу, пошел к нему. Усевшись на столах, они там громко разговаривали, мешая русскую речь с английскими словами. В лучах солнца из конторы клубами повалил в магазин табачный дым. Бутсбп осторожно поглядывал на Василия Кузнецова, когда тот не замечал. Его занимало, что это за новая величина всходила. Иван очень приветлив с молодым Кузнецовым. «Это не без причины! Молодой человек! Совсем молодой человек!» Старому торговцу становилось немного грустно. Сам он уезжал на два года в Бостон, но пришлось вернуться, слишком хорошо знал Бутсби здешние условия, рынок, меняющиеся вкусы покупателей. За последний десяток лет появились его соотечественники, торгующие плугами, боронами, сельскохозяйственными машинами. Бутсби также немного торговал плугами. Но в низовьях слабо развивалось земледелие, к тому же в Сибири умели делать плуги, их доставляли из верховьев реки на баркасах. За последнее время фирмы стали открывать свои отделения на юге края. Торгует в Благовещенске Мак-Кормик. Торговля Бутсби сразу стала чахнуть, как только уменьшилось население в низовьях. Теперь Бердышов развивал промыслы, у него было прииски, несколько тысяч рабочих, а может быть, и несколько десятков тысяч людей зависели от него. И постепенно так получилось, что Бутсби, ослабленный конкуренцией с соотечественниками и с германцами, по сути дела, зависел от своего бывшего покупателя. Скупку мехов Иван вел и по-прежнему доставлял в магазин Бутсби пушнину. Он держался так, словно ничего не переменилось. После поездки в Париж Иван сегодня впервые зашел в магазин. На вид он был все тот же. Бутсби выдвинул из стола ящик, бросил туда пачку денег, встал и поблагодарил его. Выпили по стаканчику рома. Вышли. Шлюпка ждала под обрывом. Несколько арестантов в кандалах и пожилой солдат с ружьем сидели без дела, ожидая чего-то. – Налегай… Раз-два… О, молодцы! – восклицал немного раскрасневшийся Бутсби. – В ваши годы, – сказал он Василию, – я тоже бродил в портах! Но не в таких… И у меня были такие же волосы и такой румянец!
Все выше и выше под Василием рос темный и щербатый, избитый и разъеденный солью борт. Отсюда вид на город был хорош. Несколько славных домов, горы, леса, огромная река, как морской залив, голубой горизонт за ее устьем, белые форты крепости на скалах – все нравилось Ваське, он радовался, как в детстве, и чувствовал себя мальчишкой. На смоленом борту двухмачтового парохода, словно трещины на стекле, перемещались отражения волн. Рыжеватые нерусские матросы в беретах, с бачками и с короткими трубками в зубах, с ножами у кушаков ворочали на палубе громадные шкуры с толстым слоем жира. Василий залез на палубу и с удовольствием смотрел загрузку трюмов. Кто-то тронул его за плечо. Темное, опухшее лицо Бутсби улыбалось. – Вам интересно? Не хотите и вы, как Сана? Санка Барабанов повел Василия вниз, показал свою каюту. Он уходил в далекое плавание. Отец посылал посмотреть божий свет. Знакомые обещали устроить его на работу. Санка хотел выучиться, узнать машины. – А ты не привыкнешь? Вернешься ли? – спросил Василий. Санка хитро засмеялся. Он все мог бы. Но отца подводить не будет. Отец затевал большое дело, и он решил переезжать во Владивосток. Васька вернулся на берег и посмотрел сверху на далекий пароход. И жалко и грустно ему было, что уезжает Санка, старый товарищ детства. – Да, умеючи можно получить любое позволение, – сказал Иван. Василий подумал, что за такие богатства, какие Иван туда отправляет, конечно, они благодарны ему, приняли как гостя. Но не богатства и не новые невиданные края заботили Василия. Он хотел не нового края, а нового устройства жизни в том краю, где сам он был новоселом, куда привели его в детстве родители. Не в далеких странах искать счастья! Надо было идти помогать Тимохе. Дома отец с матерью, Катька… «А как мы сойдем с парохода без Сашки?» … А на сопках в вершинах лежит уже снег. В Уральском еще тепло. «Казакевич» гудит, отходит в Хабаровку. Уезжает все начальство, производившее разгон прииска. На прощание Барсуков зашел к Ивану Карповичу. Он сказал, что дело Сашки будет представлено генерал-губернатору. Накануне вечером Василий провожал его. – Отец мой не читал книг о социализме, но он как-то дошел до всего сам, – говорил Василий. – Нам с детства об этом говорил. Когда мы ему рассказывали, то он не удивлялся, словно знал уже современные взгляды… И глядя на него, мне казалось, что существует как бы совпадение поисков. Поэтому даже простые люди, как мой отец, быстро понимают то, что хотят революционеры. – Да. Есть закономерность в развитии общества, – отвечал Барсуков. – Мы и об этом говорили. – Вы будете переписываться с вашим товарищем? – Да, мы обещали не терять друг друга из вида. Теперь он в Хабаровке. * * * Тимоха и Василий везли на телеге новые жернова, когда их приостановил какой-то человек. По бороде и по виду он принял Силина за кержака. – Нет, я православный! – ответил Тимоха. – Своих никак не найду… Мы проездом, – сказал бородач. – Куда же вы? – В Америку. – Что это, куда несет? Кто вам рассказал? Как вы дорогу нашли? – Пароход повезет! В России жили да перешли в Сибирь, а братья мои со старого места с поляками уехали в Америку. Выслали мне деньги, паспорт. Пишут, что там утеснения нет – нашей вере свободней… – Расею-то не жалко ли? – спросил Тимоха. – Да надоело маяться. Все всегда виноваты, чего ни сделай! А там свобода! – Н-но! – вдруг хлестнул коня кнутом Тимоха, и телега с жерновами тронулась, громыхая на глубоких выбоинах и на засохших комьях грязи. – Н-но! Зараза! Из-за старой веры хочет на чужбину идти! Ты попробуй тут проживи… Тасканый же народ, эти староверы… А начальство все им разрешает… кто-то и об их переселенье хлопочет. Кому в Америку, а кого за одни разговоры – в каторгу. – А в Америке красивые люди? – спрашивала Ваську дочь экономки, молоденькая, крещеная бурятка в русском сарафане. – Есть красивые, – отвечал он и невольно залюбовался пристальными ее черными глазами, – а есть черные, как чугун! Вася думал, что он не завидует Санке. Он хотел бы не в Америку. «Отец заронил во мне другие желания!» – думал он, возвращаясь с Тимохой на последнем купеческом буксире. Приходилось помогать во всем команде, стоять с шестом, охраняя борты от наносных лесин, приходилось рубить и грузить дрова на остановках. Васька вспомнил, как Катерина однажды слушала проповеди Корягина и в знак согласия кивала головой, но не вниз, а вверх, словно ее вздергивали удилами или она сильно изумлялась. А Илья сидел тогда довольный, смотрел пристально, лицо его было степенным, он сложил руки на брюхе, в любимой своей позе, закинув одну ногу под скамью, а другую выставив. На рождество должны съехаться в церковь хищники, и последние их заработки в мешочках, недомытые их мечты и богатства надо было раздать, чтобы несли кабатчикам, торгашам и контрабандистам, а оттуда все стекалось бы в золотые груды, в подвалы. После этого надо было отрабатывать Ивану Карпычу. Потом он вспомнил, как Катя говорила его матери: «Когда я его встретила – удивилась. Я думала, все пьют. Я с самого малолетства среди пьяных, матюкаются и пьют. И Васька меня тот год все отучал и останавливал». * * * Весной губернатор просматривал списки крестьян, назначенных принять участие в осенней выставке. Он вызвал Барсукова и любезно обратился к нему: – Петр Кузьмич, вы включили пермского Кузнецова участвовать с зерном в сельскохозяйственной выставке? – Да, Андрей Николаевич… – Но, ведь он… он же… ну… неблагонадежен? – губернатор посмотрел вопросительно. – Я смею вас уверить, что это честнейший человек, порядочнейшая личность. Его пашня стала как бы символом. – Да, да… «Егоровы штаны»… – сказал губернатор. – Да, он первый поселенец, один из образцовых… – Барсуков стал рассказывать все, что знал о Кузнецове. Губернатор выслушал. – Петр Кузьмич, мы не смеем выставлять как образец личность, некоторым образом связанную с преступным миром. Он был избранным президентом, то есть атаманом, по сути дела, его близкие побывали в тюрьме.
– Но это же ошибка. Здоровые силы народа. Дайте им право, они вам гору своротят. У них руки связаны! Губернатору неприятна была подобная фраза: «Руки связаны». – Пойдем на компромисс. Пусть его младший брат Федор Кондратьевич Кузнецов участвует в выставке со всеми показательными цифрами и произведениями от их хозяйства. Петру Кузьмичу все это очень не нравилось. И он не хотел спорить с губернатором и дал согласие. «Вообще Корф мог моего согласия и не спрашивать! – полагал он. – Как я буду смотреть в глаза Кузнецовым? Я же знаю его давно… Он лишь исполнил или пытался исполнить то, о чем мы все мечтаем. Но мы не смеем!.. А он посмел! Предать его – это предать себя! Барсуков кричал на переселенцев в дни их прибытия на плотах. Он делал это по убеждению, и другого выхода не было. Барсукову начинал не нравиться новый генерал-губернатор. Это честные, аккуратные, но сухие люди, на которых поначалу надеешься, потом оказываются формалистами, законниками. А подкупал своей внимательностью, серьезностью. Барсуков решил, что на этот раз он не уступит. «Придется и мне, как Егору, к барону вернуться за рукавицами. Либо Кузнецов и вообще все уральские и тамбовские, независимо от того, слушали они проповеди на прииске или нет, а только по показателям их хозяйств, по коровам, по зерну, картошке, по шкурам зверей, а не по досье… Либо я ухожу! Уезжаю! Довольно! Поеду доживать век свой на родине, на берегах Байкала!»
|