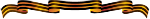С приходом на Амур крестьяне плохо соблюдали старые обычаи, ели мясо в постные дни и в посты, лишь бы было где его взять; если стояла хорошая погода, то работали и в праздники и по воскресеньям, хотя и помнили эти дни. Они считали себя тут как бы свободными от прежних суеверий и предрассудков. Тут было все не так, как на родине. Старые обычаи и приметы были теперь ни к чему.
Какой же мог быть домовой в землянке! Только в пурге некоторые переселенцы еще по-прежнему видели черта, с чем Бердышов никак не соглашался.
- Все черти тут при гольдах живут, - смеялся он, - у них этих чертей, беда, шибко много, а при русских чертей нету. Поразговаривай-ка с Ангой, она их всех знает, где какой.
Забывались и старые песни. Давно уж не певали их крестьяне, и не хотелось петь, чтобы не бередить душу воспоминаниями о родине.
В рождественский пост переселенцы вовсе оскоромились. Бормотовы подстрелили в верховьях Додьги секача*.
_______________
* С е к а ч - дикий кабан, самец.
К рождеству и у Кузнецовых и у Барабановых были мука и мясо, и бабы стали подумывать, как бы отпраздновать праздники, чтобы хоть чем-нибудь оживить свое унылое житье-бытье.
На последней неделе поста морозы отпустили. Стояли ясные, хотя и ветреные дни. Как-то поутру, еще затемно, в землянку к Кузнецовым ввалились Иван и Федор, одетые в полушубки и в дохи. По их движениям, как они рассаживались на лавке, и по их оживлению Егор, лежа на печке, догадался, что мужики что-то задумали.
- Ну, Кондратьич, подымайся, - хлопнул себя кнутовищем по валенку Федор.
- Чего еще затеяли? - привстал Егор.
- Праздники станешь ли справлять? - спросил Бердышов.
- Стало бы с чего их справлять, - отозвался из теплого угла дед.
- Чего тут! Ни попа, ни церкви, - возразил Егор. - Если метели не будет, робить бы, а то время только зря пройдет.
- Грех в праздник-то робить, - покачал головой Федор. Как он ни был скуповат, но погулять любил, хотя часто жалел после гулянок пропитого и проеденного. - Дело-то не медведь, в лес не убежит. А мы было в Бельго собрались, в лавку. Думали, и ты с нами поедешь - крупки купить да и на рубахи бы набрать надо. Айда! Да и водчонки возьмем, надо же и погулеванить, а то тут вовсе зачумишься.
- И то дело, поезжай-ка, Егор, - подхватила бабка. - Настьке да Наталье на сарафаны бы привез к празднику. А то, как на Амур пришли, еще нисколечко для "женского" не брали.
- Конь у тебя застоялся, - сказал Бердышов, - слышно, как назьмы копытами отбивает. Запрягай-ка, живо промнешь его. Поглядишь, как гольды живут. Ты ведь еще не видел. Лодку тебе надо, уговоришься, сделают весной. Лыжи купишь. Забегаешь по тайге-то! Берегись тогда, звери!..
- Денег-то нету. Набрать товару не мудрено, да отдавать-то чем станем? - упорствовал Егор.
- Нам и так поверят. А отдавать когда надо будет, тогда и подумаем, ответил Иван. - Да вот Федюшку свези, пусть и он приглядывается, - кивнул Иван на паренька.
Тот с радостью вскочил с лавки и опрометью кинулся обуваться. Видно было, что и ему до смерти наскучила однообразная жизнь.
Ущербленная луна уже побледнела над лиственницами, когда мужики на двух санях съехали с берега на широкий амурский лед и покатили в Бельго.
Федор лежал в передних санях между Санкой и Иваном. Бердышов показывал дорогу, чуть намеченную по снегу, а парнишка правил. Настоявшийся Гнедко шел крупной рысью. Егор с Федюшкой и Тимошка Силин лежали в задних розвальнях. Егоров Саврасый, бойко перебирая мохнатыми лодыгами, следовал за передними санями, то и дело набегал на них и, потряхивая гривой, пофыркивал над головой Барабанова.
- Вот ты, Иван, все с бельговскими водишься, - говорил Федор. - А ведь Мылки к нам будут поближе, а из мылкинских ни разу никто не был на Додьге, как мы приплыли. И ты про них никогда не поминаешь.
- Между Мылками и Бельго идет вражда, - проговорил Иван Карпыч. - Они как-нибудь еще драться станут. Мылкинские и меня заодно с бельговскими считают.
- Ишь ты! Чего же это гольды не поделили?
- Из-за девок они в прошлом году поссорились. Тут в Бельго есть старик Хогота, у него сын Гапчи, отчаянный парень, он себе украл бабу в Мылках, она была женой тамошнего богатого старика. Потом мылкинские всей деревней напали на этого Гапчи, хотели ее отбить, но ничего у них не вышло. Ну и затянулась эта канитель.
Федору только теперь стало понятно, почему Иван ни словом не обмолвился, когда Егор отобрал у гольдов невод. "Однако, это мылкинские тогда были. А ты, видно, тоже тут не без греха", - подумал он про Бердышова.
По реке навстречу едущим дул морозный ветерок. Через торосники дорога, чуть намеченная нартами и изредка проезжающими тут санями, уходила под обрывы правого берега. На середине реки топорщились глыбы битого льда, нагроможденного на мели и вмерзшего во время рекостава.
Заснеженные каменные сопки вереницей плыли назад. Крутые и щербатые обрывы их были черны. Через шесть таких сопок открылся вид на лесистую пойму, на паши* и на глубокую падь, ушедшую клином, как в стены, в крутые и щетинистые хвойно-лесные увалы. Над поймой у самого берега высилась небольшая релочка с обрывами. На ней в порубленных перелесках и ютилось несколько десятков хмурых приземистых фанзушек поселка Бельго.
_______________
* П а ш и - поемные луга.
- Эвон кто такой? - сказал Санка, завидев поодаль от дороги человека, который приник на корточках ко льду и махал палкой вверх и вниз.
- Это рыбак, старик какой-нибудь, махалкой ловит рыбу в проруби, объяснил Иван. - Как пристанем к лавке, ты беги с Федюшкой, погляди. Без наживы, одним кованцем* таскает.
_______________
* К о в а н е ц - кованый крючок.
Рыбак, завидя коней, поднялся и стал присматриваться к едущим.
Бердышов показал дорогу к лавке, и вскоре розвальни, поднявшись на берег, подкатили к глинобитному дому с высокой крышей, стоявшему поодаль от стойбища.
Под свайными бревенчатыми амбарами загремели цепями сторожевые черные псы. Ездовые собаки подлаивали им.
Купцы вышли из фанзы. Гао Да-пу, спрятав руки в разрезы стеганой юбки и согнувшись, короткими шажками выбежал вперед и остановился, не доходя саней.
- Давно, давно, Иван Карпыч, ты в нашу лавку не ходи, - скалил он зубы, поеживаясь. Собрав в жесткие складки крепкое смуглое лицо, торговец поблескивал бойкими глазами.
Тут же суетились, унимая собак, его братья. Старший из них был толст, но проворен. Разогнав собак, он подскочил, чтобы поздороваться с мужиками, и стал с размаху хлопать ладонью по их рукам. Одет он был неряшливо. Грязная стеганая кофта лоснилась, на лысине торчала маленькая засаленная тюбетейка.
Младший брат, напротив, выглядел щеголем.
Из-под распахнутой лисьей шубы виднелся шелковый черный халат, голову покрывала новенькая шапочка с шариком на макушке, на ногах он носил теплые туфли с толстыми войлочными подошвами; ходил он, как-то необыкновенно выворачивая пятки и покачивая бедрами. У него были живые, шустрые глаза и острое тонкое лицо с тяжелой и неприятной нижней челюстью. Несмотря на разницу во внешности, и у грязного толстяка и у щеголеватого юноши был одинаковый вид сытости и довольства. Старший - обжора и здоровяк, а младший, как видно, имел слабость рисоваться и во всем подражать богатым городским купцам.
Иван Карпыч называл их Василием и Мишей, а самого хозяина - Иван Иваныч или просто Ваней.
Работники притащили два старых овчинных тулупа и накрыли ими коней, как попонами. Щеголеватый Мишка время от времени резко покрикивал на работников, стараясь показать себя перед мужиками хозяином.
Гао Да-пу обнял Бердышова и повел гостей в фанзу. Там оказалось несколько гольдских женщин; толстяк выгнал их вон, едва русские вошли в дверь. Фанза была полна разных товаров, шкур, китайской мануфактуры, посудин с вином. На канах* стояли лакированные столики. На всем лежал отпечаток благополучия хозяев.
_______________
* К а н ы - теплые глиняные нары.
Мужики и торговцы, как обычно во время купли-продажи, заспорили, зашумели, стараясь перекричать друг друга. Брань повисла в воздухе.
Федюшка и Санка, обогревшись, выскочили из лавки и побежали на Амур к проруби. Там сидел горбатый седой гольд, одетый в коротенькую шубейку, и махал своим самоловом.
Едва ребята к нему приблизились, как он выдернул из проруби щучку. Высвободив из-под жабер вершковой крючок, гольд кинул рыбу на снег. Она забилась и запрыгала, но морозный ветер быстро обледенил и усыпил ее.
Ребята, оглядевшись, осмелели и подошли к рыбаку вплотную. Он поднял к ним дряблое лицо с больными глазами и заискивающе улыбнулся, показывая свой самолов. На короткой палке, на конце поводка, была прикреплена деревянная рыбка, обшитая мехом белки-летяги, а повыше ее - железный крючок. Таково было все устройство снасти.
Старик оказался добрым. Слов его ребята не понимали, но он изобразил движениями, как щука играет с деревянной рыбкой, пытаясь ее проглотить, и зацепляется жабрами или боком за прыгающий в воде остроконечный крючок. Самоловы с ненаживленными крючками ребята видели и по дороге у амурских казаков, но такую простую махалку они наблюдали впервые.
С берега сбежали, направляясь к проруби, двое расторопных гольдят. Однако, разглядев чужих, они помчались обратно, и, как ни кричал им старик, они его не слушали и скрылись в одной из фанз. Гольд сам собрал закоченевших щук и, ворча, отправился через сугробы, а Федюшка с Санкой возвратились в лавку.
Мужики набрали водки, ситцев, табаку и разной мелочи. Поскидав дохи и полушубки, они, сидя на теплых канах, пили горячий чай. Торговцы поднесли им по чашечке ханшина; бородатые лица переселенцев раскраснелись и повеселели.
Разговор шел о землепашестве на Амуре.
- Моя тут маленький огород есть, - рассказывал Гао Да-пу. - Огурец есть, брюква, капуста. Тоже каждый год землю копаем. На Горюн переселенцы первый раз приехали - моя раньше думай, как они в тайге пашню делай? Потом смотри - его тайга рубили, землю копали, хлеб посеяли. Потом другой год хлеб собирали. Его шибко работай - хлеба немножко, совсем мало получи. Моя думай, ваша шибко много лес руби не надо. Надо соболя ловить, соболя поймаешь - барыш получишь, мука, водка купи - гуляй можно...
Гао Да-пу советовал мужикам охотничать, суля большие выгоды.
Иван, между прочим, узнал бельговские новости. Оказалось, что в стойбище, кроме женщин, детей и нескольких больных стариков, нет никого. Охотники, ушедшие на промысел осенью, из тайги еще не возвращались.
Погостив в лавке, мужики направились в стойбище с намерением выменять у стариков кой-какие необходимые вещи. Покупки уложили в сани, распростились с торговцами.
Иван, встав на колени в передних розвальнях, тронул вожжами Гнедого. Мужики двинулись пешком вровень с санями, переговариваясь с Бердышовым.
Едва сани переехали редколесье, отделявшее лавку от стойбища, как на улице началось необычайное оживление.
Нарядные гольдки в ярких халатах стали перебегать из фанзы в фанзу или, открыв дымные двери своих жилищ, громко переговаривались между собой, с улыбками поглядывая на мужиков, одновременно и смущаясь и всячески стараясь обратить на себя их внимание. Из лачуг несся оживленный смех.
- Это ведь для нас они, дурехи, вырядились. А то они в рванье ходят, в халатишках из кетовой кожи, - говорил Иван. - Увидали и понадевали на себя всего: и шелка и серебро, чего у каждой лежит.
- Бабы же! - отозвался Егор.
- Тут сейчас бабье царство, - засмеялся Иван, - а торговцы чего хотят, то и делают с ними. Мужья все в тайге, а старики сами всего боятся. Тут сейчас меньшой лавочник, как петух, всех этих баб подряд топчет. А мужики где-нибудь для него же добывают меха.
- Как солдатки, - вымолвил Егор. - Эх, бедность, бедность, - вздохнул он, - везде так-то бывает!
Подле длинной глинобитной фанзы стоял давешний горбатый рыбак. Он бранил низкорослую женщину с серебряным кольцом в носу, стоявшую на дороге. Как видно, женщина наскучалась за зиму и сейчас была в сильном волнении. Она поводила плечами, закатывала глаза и вертела головой, желая, чтобы на нее посмотрели новые люди. Из-за ее желтого халата, расшитого красными узорами, со страхом выглядывала орава ребятишек, мал мала меньше, с глазами, воспаленными от болезней и дыма, с лишаями на лицах, с жестковолосыми черными головами.
Иван поздоровался с горбатым гольдом, и тот, оставив игривую молодуху в покое, поспешно заковылял вровень с санями.
У следующей фанзы, покуривая, сидели двое древних стариков. Один из них слепой, другого согнуло в три погибели от какой-то болезни. Иван вышел из саней и заговорил с ними по-гольдски.
Сопровождаемые тремя стариками, мужики вскоре подошли к дому Удоги тестя Ивана. Жилье его отличалось от других. В углу сложен очаг наподобие русской печки, а пространство между канов устлано вымытыми и выскобленными досками. На канах стояли русские сундуки, а в окна вставлены стекла.
Айога и ее сынишка Охэ с восторгом встретили Ивана. Хозяйка захлопотала об угощении.
У всех бельговских гольдок вдруг оказались неотложные дела к Айоге, и они то и дело забегали в фанзу. Некоторые из них, посмелее, усаживались в сторонке, у очага, и с таким видом слушали разговоры приехавших, что казалось, никакая сила не смогла бы сдвинуть их с места.
Айога приготовила гостям кашу с сушеной кетовой икрой. Охэ, полнощекий коротыш в ватной курточке, не отходил от Ивана и ластился к нему, терся большой и чистой стриженой головой о его колени.
- Чего же ты на охоту не ходишь? - спрашивал его Бердышов. - Большой уж, свои нарты пора заводить.
- Тятька не берет, - чисто по-русски ответил ему Охэ.
- Пора бы тебе белок стрелять, как же это ты? Шаманом, что ли, будешь, пошто ленишься в тайгу бежать? - дразнил его Иван. - Еще не собираетесь помириться с мылкинскими? - обратился Иван к старикам.
Бали - гольд с бельмами на глазах, со впалыми щеками и редкими волосами на верхней губе, шамкая, стал с трудом говорить, что Хогота хоть и старик, но еще крепкий и до сих пор ходит на охоту. Ему удалось поймать медвежонка, и он теперь выкармливает его, а летом хочет заколоть, устроить праздник, позвать в гости мылкинских и мириться с ними.
- Ты бы, Ванча, помог нам помириться, - смахнул слезу Пагода.
Это был согнутый болезнью старик со страшной головой. У него на темени седой щетиной торчали стриженые волосы, а маковка и затылок были обнажены, голая кожа на них красна, узловата и морщиниста. Когда-то Пагода попал в медвежьи лапы.
Зверь сломал ему шейные позвонки и, ухватив когтями затылок, содрал кожу с головы. Согнулся же Пагода недавно от ломоты в пояснице, так что при ходьбе он касался правой рукой земли.
- С тех пор как ты уехал от нас, нам жить плохо стало, - жаловался старик.
- Нынче весной, если не помиримся, беда будет! - Сказав так, горбатый Бата заморгал красными безволосыми веками. - Мылкинские могут у нас всю деревню перебить. С копьями нападут, станут всех колоть.
Мужикам пришлось долго слушать непонятную беседу Ивана со стариками. Наконец Федор не вытерпел и заговорил о деле. Бердышову и самому надоели жалобы гольдов, и он рад был завести с ними другой разговор, тем более что заступаться за гольдских баб и ссориться из-за них с торговцами он совсем не собирался. Он стал переводить, и мужики через него завели беседу со стариками.
Егор и Федор условились с Батой о цене лодок, которые делал его сын.
Старики брались вязать мужикам невода и сети, делать снасти, шить меховую обувь, шапки, куртки для охоты. Все эти работы они собирались задать своим дочерям, внучкам и невесткам. Однако мужики еще робели сделать гольдам сразу так много заказов и не воспользовались их предложениями.
Тимошка Силин сторговал себе пару лыж.
Старики были очень рады приезду переселенцев. Они подробно отвечали на все их расспросы и всячески старались удружить им. Старым гольдам была приятно, что и они еще кому-то нужны и что нашлись люди, слушающие со вниманием их советы и наставления.
Мужики погостили в Бельго до вечера, смотрели фанзы, амбары, запасы юколы, нарты, собачью упряжь и ездовых собак, самоловы, самострелы и копья. Они побывали около дома Хоготы, где в бревенчатом срубе сидел молодой медведь, предназначенный для угощения мылкинцев.
Прощаясь, Иван звал Айогу на рождество вместе с Григорием и Савоськой, если те к празднику вернутся из тайги.
Затемно мужики двинулись в обратный путь. Ударил сильный мороз, мгла окутала реку, лесистые распадки по склонам сопок казались огромными синими птицами, парившими над ледяной безмолвной пустыней. Мужики кутались в шубы и тесней жались друг к другу, но мороз все же находил себе лазейку. Приходилось соскакивать с розвальней и бегом бежать за конями, только так можно было немного согреться.
Егор, отъехав верст пять и набегавшись, повалился на сено и задремал. Спал он недолго и поднялся, весь дрожа от холода. На реку спустился густой туман. Саврасый, побелевший от инея, перестукивал копытами.
- Не спи, Кондратьич, замерзнешь, - услыхал Кузнецов глухой голос Тимошки, толкавшего его в бок. - На-ка тебе!
Силин протянул бутылку. Егор пригубил. В груди его полыхнуло жаром. Федюшка тоже выпил несколько глотков, и братья, соскочив с розвальней, побежали за скрипящими полозьями. Тимошка, закутавшись в тулуп, сидел в санях неподвижно, как бурхан.
Жар горел в теле Егора, лицо жгло и ломило от мороза, дыханье перехватывало. С разбегу он опять повалился на сено. Тимошка снова достал бутыль и, потянувши из горлышка, сунул ее Егору. Кузнецов выпил, завернулся в доху и лег ничком. Голова его кружилась, теплая истома полилась в ноги и руки.
- Эй, там! - закричал вдруг Тимошка, обращаясь к передним саням. - Не спите! Какие-то навстречу едут. Слышь, собаки заливаются...
Егор прислушался. Скрипели полозья, екала селезенка у Саврасого. Конь тяжело дышал и шебаршил копытами по дороге. Откуда-то из темноты вдруг явственно донесся собачий лай.
- Берегись, Тимошка! - громко и насмешливо отозвался Иван. - Едут не наши, а чужие! Шибко едут, держись!
Лай становился все громче и ожесточеннее. Вдруг с передних саней послышались испуганные крики Федора, и сейчас же их перекрыли чьи-то чужие гортанные голоса.
- Никак встретились! - воскликнул Тимошка. Он нахлобучил шапку и, на ходу выпрыгнув из розвальней, исчез во мраке.
Саврасый остановился. В тумане послышались громкие голоса, что-то не по-русски говорил Иван Карпыч. Егор пощупал, не вылетели ли из саней обновы, что он вез жене. Нет, целы. Ну и слава богу! Он обошел сани и, проваливаясь в снег, направился по сугробам на голоса.
У передних розвальней он различил Бердышова и Барабанова, переругивавшихся со встречными. В своих огромных шубах те походили в тумане на большие соборные колокола. Они обступили мужиков полукругом, сдерживая своих злобно рвущихся собак.
- Ведь он же кричал тебе, - говорил Бердышов, обращаясь к рослому встречному.
Двое людей в шубах оттянули своих лающих собак с дороги и стали их бить.
- Чего случилось-то? - спросил, подходя, Егор.
- Вожак, кажись, укусил Гнедка за ногу... Как встретились, он захрипел и схватил его, - уныло ответил Федор.
- Не захотел с дороги свернуть! - подтвердил. Иван.
Заиндевевший конь стоял, понуро опустив голову.
Между тем из темноты подъехали еще нарты. С них слезли двое и присоединились к толпе.
- Гляди-ка, сколько их едет, - почесал затылок Тимошка.
- Егор, бери-ка мое ружье! - сказал Бердышов.
Кузнецов схватил из розвальней винтовку. Один из встречных, небольшого роста, в пышной шубе с высоким воротником, очевидно хозяин, что-то кричал своим, по-видимому приказывая уступить.
Бердышов пристально вглядывался в него.
- Иван Карпыч, да не трожь ты их, ладно уж, поехали, - заговорил Федор, опасаясь, что начнется драка. - Может, не укусил, не видно... Что зря... Не допусти до греха, бог с ним.
Тем временем встречные быстро собрались и с криками погнали собак.
- Ишь, с пустыми нартами поехали, - зло вымолвил вслед им Бердышов. Не отняли бы, я бы с ними сцепился, насмерть забил, - говорил он, надевая доху. - Это маньчжурец поехал, начальник их, тварюга! До сих пор они из Китая потихоньку на Амур ездят, гольдов грабить. И дороги не дает, едет как начальник. Они и русских убивают, глаза им выкалывают!
Бердышов пересел к Егору, и розвальни тронулись.
- Ну, Егор, теперь согрелись, не замерзнем! - вдруг неожиданно весело проговорил Иван. - Можно ехать хоть всю ночь, - и он завалился на бок. Маньчжурец этот ходит сюда на грабежи. Тайно албан - налог - с гольдов берет, пугает их, а они боятся - платят. Русских, говорит, всех надо убить. Если кто соболя не отдаст, уши отрежет. Раньше они летом приплывали, а теперь норовят зимой, пока полиции нет. Они к весне стойбища объезжают и зимние меха берут, а наш исправник живет себе в Софийске, не тужит. Ему хоть бы что!
- Почему собаки коня схватили? - спросил Федюшка.
- Вожак всегда хватает всякого, кто на дороге встречается. Не любят ездовые собаки, когда дорога занята. Если две чужие упряжки встретятся да ездоки недоглядят - как схватятся, начнут кататься, ну, беда, народом приходится их растаскивать.
- Слышишь, Иван, а почем ты знаешь, что это маньчжурец поехал? спросил Тимошка. - Может, китайский торгаш?
- Нарты пустые, да и народу много. Они помалу боятся ездить. Все равно никуда не денутся, будет время - попадутся, придет их черед. Мне бы только этого нойона встретить, самого бы главного. Уж он старик старый, рябой, а злой же - хуже медведя. Беда, как его гольды боятся. Он в прежнее время на Пиване царевал, потом уж погнали его оттуда, - усмехнулся Бердышов. - Черт его душу знает, не он ли это поехал? Может, я спьяну не разглядел...
В поселье мужики вернулись поздно. Пока они ездили, женщины выскребли и вымыли землянки, перестирали одежонку, а бабка Дарья повесила в угол на икону белое вышитое полотенце. По сибирскому обычаю стены убрали пихтовыми ветвями, и в жилье пахло свежей хвоей.
На другой день началась стряпня.
Наталья напекла рыбных пирогов, а со звездой, в сочельник, Кузнецовы всей семьей выпили ханшина и попели старые песни. Дед оживился и весь вечер рассказывал ребятам сказки.
- Лунь пловет, лунь пловет, - окал он в углу, - сова летит, сова летит...
Попозже пришли Иван с Ангой. Вскоре в землянку собрались все переселенцы. При свете лучины водили хороводы, пели, плясали и разошлись глубокой ночью.
Мела метель. Снежные кудри вились под тускло светившимися окошечками землянок. Хлопья снега, падая на распаленные лица мужиков, таяли и леденели на усах и на бороде.
- Нечистый дух и в праздник покоя не дает, - жаловался Тимошка, пригибаясь и еле шагая против ветра, прячась за широкую спину Пахома.
- В праздник-то самый от него морок, - пояснил ему пьяный Бормотов. Он тоже это дело понимает.
Егор втайне не любил праздников, всегда жалел бесцельно проходившее за гулянкой время. Тем более тут, на Амуре, где не было ни попов, ни церквей, праздники, по его мнению, были совсем ни к чему. Впрочем, он всегда старался следовать тому же порядку, что и окружающие. Видя желание семьи погулять не хуже людей, Егор не стал перечить; он съездил в лавку, взял вина, гостинцев и созвал гостей. Но даже в это время из его головы не уходили заботы о деле. Работа его спорилась больше, чем у других. Сквозь бедность и голод Егор предугадывал впереди достаток. Вся его душа, все его радости были в труде, в стремлении к этому достатку, и лишняя поваленная лесина доставляла ему большее удовольствие, чем водка, угощения и бесконечная болтовня мужиков.
На первый день рождества гуляли у Ваньки Бердышова, как под пьяную руку звали на праздниках Ивана Карпыча. Пахом и Тереха Бормотовы взялись корить Барабанова за то, что он сменял им на кабанину плохую муку. Слово за слово, Пахом разошелся и помянул Федору старые грехи.
- Слыхал я, пошто ты из дому ушел. Не с добра ты на Амур перекинулся! - кричал он, ударяя кулаком по столу так, что тарелки прыгали. - И тут за прежнее берешься, - стыдил он Федора при народе.
- А ты, Пахом, зря старое вспоминаешь, - заступился за соседа Иван. Вот сказал бы этак сибиряку, из каких-нибудь не помнящих родства или ссыльнопоселенцев, и тут же с тебя бы душа вон. Чего с кем было на родине, не нам с тобой судить, а тут мы все одинаковые. Крепостных до "манифеста" и то освобождали, если они заходили на Амур. А мука, - хлопнул он по костлявому плечу Пахома, - какая бы ни была, дороже здесь, чем зверятина.
- Вот это ты верно сказал, - согласился Пахом, тряся бородой. - Но пошто, будь он неладный, горклую-то отдал и не сказал? Сказал бы, ладно уж, все равно мы бы взяли, а то в обман ввел.
Дело чуть не дошло до кулаков. Иван утихомирил Пахома и Тереху.
На другой день после бердышовского угощения большинство гостей его болели, отравившись крепким ханшином. Однако к вечеру мужики, несколько оправившись, снова собрались пить у Тимошки.
Тимошкина жена, сухопарая Фекла, измученная работой и голодом, обычно ворчливая и крикливая, была охотница до самого безудержного веселья, словно на праздниках, под хмельком, когда забывались заботы и печали, старалась она скорей наверстать радости, упущенные в бедной и скучной жизни. Несколько дней перед рождеством она старалась изо всех сил: скребла, стирала, мыла и стряпала из скудных запасов муки рыбные пироги.
Фекла опьянела. Она пела и плясала, ее изможденное худое лицо зарумянилось, она буйно веселилась, топчась с платочком в руках по землянке, выкрикивая плясовую и не обращая внимания ни на кого, словно плясала она не перед людьми, а лишь для одной себя; большие, лихорадочно блестевшие глаза ее блуждали.
Братья Бормотовы примирились с Федором, стали обниматься, пороняли на пол дорогие Фекле глиняные чашки.
Барабанов, прослезившись, клялся мужикам, будто сам не знал, что мука была прогорклой, и Пахом, наконец, великодушно простил ему обман.
Гости поели все Феклины угощения, выпили водку, нагрязнили в землянке, побили посуду, поссорились, перецеловались и разошлись. Пьяный Тимошка изругал и больно ударил Феклу.
Так минуло рождество, прошел хмель, веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.
|