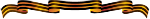Последние десять верст матросы, высланные из Охотска навстречу Невельским, Екатерину Ивановну несли на носилках. Поздно ночью переехали через озеро на лодке. Слышно было, как, идя по глубокой гальке, люди бухали в нее ногами. Впереди шел казак с фонарем.
Время от времени отчетливо слышался какой-то грохот.
— Что это шумит? — спросила Катя.
— Это кошка шумит, — ответил один из охотских матросов, — накат.
— Это шумит море, — сказал муж, шедший все время рядом. — Рушится волна на берег… Вот, слышишь, опять…
— Море… — слабо пролепетала она. Так вот оно, огромное, грозное, бескрайнее. Шторма нет, ветра нет, тихо, тепло, а такой грохот. — Как оно шумит! — сказала Катя, прислушиваясь внимательно.
Оттого что самого моря не было видно, а оно лишь угадывалось, его грохот казался еще грозней. Она впервые в жизни слышала шум настоящего моря. Она выросла в Петербурге и открытого моря не видела никогда, как никогда не слыхала шума прибоя. Это походило на шум ветра в лесу. Шумело «его» легендарное море, о котором он так много рассказывал. Грохот волн становился все отчетливее, и ей казалось, что грохочет сам громадный океан, и все величие дел ее мужа и его мыслей становилось необычайно понятно ей.
Шум прибоя возбудил в ней интерес, а с ним и те силы, что исцеляют.
Послышались голоса, из тьмы подошли люди с фонарями, муж о чем-то заговорил.
Невельским была приготовлена квартира у священника. Бывший начальник порта Вонлярлярский сдал дела и уехал, а в Охотске всем распоряжался родной брат бывшего старшего лейтенанта «Байкала» Павел Казакевич[133], приехавший сюда на службу. Он отправлял людей и грузы из Охотска на Камчатку. Жил он на холостую ногу.
[133]Казакевич Павел Васильевич (1813-1882) — гидрограф, впоследствии генерал-майор корпуса флотских штурманов.
Большой старый дом Лярского, где когда-то пили, играли в бильярд, где в передней на старом плюшевом диване сидел лакей, назначен был теперь на слом и стоял черной безмолвной громадой без огней…
На квартире Екатерину Ивановну осмотрел врач, дал ей лекарство и наставления.
Невельской опять почти не спал ночь.
Взошло солнце, ставни открыли.
Катя лежала бледная, но повеселевшая, радуясь солнцу, светившему сквозь стекла.
— Сегодня уж никуда не надо ехать! От одной этой мысли я чувствую себя лучше!
Ей хотелось вскочить, почувствовать себя совсем здоровой, выбежать на солнце. Но она помнила, что врач велел лежать не шевелясь.
— Не беспокойся, — весело сказала она озабоченному мужу, — я все вынесу… И поеду с тобой… — И мечтательно добавила: — Да… по морю.
Он был рассеян, без надобности хватал вещи, вертел их в руках. В душе он решил, что ни в коем случае не возьмет ее с собой.
Позже он ушел по делам, потом она услышала, как он вернулся и кого-то бранил на улице. Наскоро позавтракав, он дал наставления попадье, как ухаживать за больной, что сделать, если у нее начнутся боли, кого и куда послать, чтобы вызвать его, и сам, попрощавшись с Катей и поцеловав ее, ушел в порт.
К Кате собрались местные дамы — жены офицеров и чиновников, еще не уехавшие на Камчатку. Слух о том, что юную хорошенькую жену капитана Невельского принесли ночью на руках, уже прошел по Охотску, и все желали ее видеть и помочь ей. Уже известно было, что она племянница иркутского гражданского губернатора и только что вышла замуж. Недавно было получено письмо ее мужа к Казакевичу, и в обществе еще тогда стало известно, что Невельские хотят купить здесь мебель у кого-либо из отъезжающих чиновников.
Дамы принесли сласти, фрукты. Оказалось, что одна из них готова продать свою мебель.
Муж пришел домой и застал целую компанию оживленно щебечущих женщин, старых и молодых. На столе он увидел ананасы, апельсины, яблоки… И тут же соленая черемша и клюква…
Когда дамы разошлись, Катя взяла апельсин и, счастливо улыбаясь, показала мужу. Она сказала, что здесь все распродаются и уезжают, одни в Россию, другие на Камчатку, и что ей предложили мебель… Но ей кажется, что дорого просят.
— Пожалуйста, Геннадий, сходи и посмотри!
Она заметила, что у него сегодня какой-то странный и неодобрительный взор.
— Ах, капитан! Почему такая строгость? Ведь мне в самом деле лучше…
Невельской увидел, что болезнь не пугает ее и она готовится к переезду и к устройству на новом месте.
Он сидел как вкопанный. Она, больная, только что перенесшая тяжелейший путь, думала о том, чтобы была мебель и письменный стол у мужа! Никто и никогда так не заботился о нем! И это в то время, когда он мысленно уже отправил ее обратно к дяде…
Катя узнала в этот день массу новостей. Что тут, например, можно из-за океана заказать прекрасные вещи, и все очень недорого…
— Дамы исправляют нам нашу политику, — шутливо добавила она.
Дивясь характеру своей Кати, он пересел к ней поближе.
— Но знаешь, я хочу сказать тебе… Ангел мой! Прости меня…
— Что такое? — испуганно спросила она. — Письма?
Екатерина Ивановна очень тревожилась за сестру, как та переносит разлуку, ведь они всегда были вместе.
— Писем нет… Я хочу сказать тебе… Я не могу взять тебя с собой в залив Счастья. Оставайся здесь, и по зимнему пути ты спокойно возвратишься к своим.
— Как? — Она вдруг расхохоталась.
Он уверял, просил, умолял. Она смотрела с удивлением, потом снисходительно и, наконец, натянув одеяло, обиженно умолкла, и ему показалось, что даже побледнела.
— Тебе хуже? — встрепенулся он.
Она тоже встрепенулась, испугавшись, что он понял все по-своему.
— Я скоро выздоровлю и поеду с тобой! — властно сказала она. — Но как же ты хочешь отправить меня в Иркутск? — поднимаясь, произнесла она с чувством. — Ты хочешь трясти меня снова? Да и как ты будешь один! Ты хочешь, чтобы я получала твои письма через год?
Его, моряка, чуть ли не всю жизнь проведшего в казарме и на корабле, глубоко трогало проявление ее любви и заботы.
Он капитан, вахтенный начальник, ему отдавали приказы, его награждали, отличали, давали чины, но никто и никогда не заботился о нем. До него самого дела не было. И служба так сжилась с ним, что стала, исполу с наукой, его личной жизнью. И вот теперь он вдруг возвратился в давно забытый, счастливый мир, где есть ласка, нежность, радость, любовь. «Да, она именно ангел», — думал он.
Ему было приятно, что она, юная, красивая, умная, желает уюта для него, заскорузлого в грубой и жестокой жизни человека. Он, словно в детстве, почувствовал нежную руку матери на своей голове. Он никогда бы прежде не подумал, что на Амуре нужна мебель красного дерева, удобный письменный стол. Но он не мог рисковать ее жизнью ради своей радости и опять стал просить ее вернуться в Иркутск.
Екатерина Ивановна и слушать ничего не хотела.
— Кроме страданий, я тебе еще ничего не причинил. Из-за меня с первых же дней ты заболела, перенесла муки.
Она молча повела головой. Руки ее протянулись к нему. Она ласково тронула его голову и склонила к себе на грудь, утешая его, как ребенка.
— Скоро я буду здорова. Я никогда не думала, что ты можешь плакать, — сказала она ему. — Ужасно! Ты помнишь?
И, как бы ужасаясь тому, что она довела его до слез, она опять обнимала его.
— Ты пожалел меня?
На ее лице были и смущение и радость. Она смотрела а его лицо, не веря своему счастью, с удивлением рассматривала его брови, глаза.
Утром пришел врач.
— Ну, как? — спросил Невельской, когда тот вышел от больной.
— Организм молодой и крепкий, поправится быстро. Ей значительно легче. Но нужен длительный отдых. Надо отлежаться… По-прежнему грелки на живот… Еще три дня полный покой, сон, опий…
Однажды Невельской вошел из соседней комнаты и сказал:
— Мой «Байкал» входит в бухту.
Екатерина Ивановна быстро поднялась и, откинув локоны, подошла к окну.
— Зачем ты встала?
— Я уже могу подниматься, — сказала она.
Она уже много раз смотрела в окошко на море.
— Это удивительно! — мечтательно произнесла Катя. — Первое судно, которое я вижу в своей жизни, твой «Байкал»… Мы пойдем на нем с тобой в залив Счастья… Я там так обставлю свое гнездышко, что ты будешь доволен. Ты не знаешь, как мне скорей хочется на твой Амур. Итак, я поплыву на «Байкале»!
Она представляла себе жизнь зимой в заливе Счастья: холод, льды, замерзшее море и грозные скалы в снегу. А в глубине ущелья маленькие домики. Один из них уютный, теплый, с чудной мебелью. В нем так хорошо! Если бы еще купить рояль!…
Сегодня попадья, к великой радости ее, сказала, что госпожа Козлова согласна продать фортепиано.
Катя с нетерпением ждала, когда же наконец врач разрешит ей выходить и она попробует сыграть на своем фортепиано.
В уютном гнездышке будет для мужа отдых, покой и счастье, а весной придет сплав, к нам в гости приедут Муравьев и Екатерина Николаевна. Они мечтали об этом…
«Фортепиано, фортепиано!» — ликовала душа ее. Ей чудились сонеты, романсы, вальсы и веселые мазурки в одном из домиков, занесенных снегом.
Болезнь отступила прочь, и вскоре Катя почувствовала себя совершенно здоровой.
Опять приходил доктор, сухой красноносый человек в ссевшемся морском мундире, садился рядом, трогал пульс, прощупывал живот.
— Еще полежать, достопочтенная голубушка моя Екатерина Ивановна.
— Как? Лежать? — вскидывая голубые глаза, удивленно спрашивала она. — Ах, доктор, вы ошибаетесь, я совершенно здорова!
— Вам нельзя ходить, — бормотал он. — Да-с! У вас было воспаление кишечника… И это не проходит так быстро. Лежите.
— Мне нельзя ходить? Нельзя вставать? Но я уже второй день с утра до вечера бегаю по комнате.
— И очень дурно-с! Дурно-с, смею заметить. Вы погубите себя! Это даст осложнение…
В этот день Невельской, придя с пристани, нашел кровать пустой. Катя выбежала к нему из соседней комнаты.
— Я здорова! — воскликнула она. — Какое чудесное фортепиано, оно совсем не расстроено, маленькое, из полированного красного дерева, в тон мебели. Оно войдет в любую самую маленькую комнату. Это будет великолепный ресурс в нашем уединении.
Воодушевленная представлявшимися ей картинами, она ходила по комнате. Она любила озадачить своего мужа. Он, такой умный, строгий, страшно деятельный и великий, терялся в такие минуты.
Она заявила, что не хочет сегодня обеда, что она сыта, съела ананас, обсыпав его ломти сахаром.
— Сама Жорж Санд могла бы описать наше путешествие, — говорила она. — Только, конечно, не как Дюма описывает бедную Полину Анненкову[134] в романе «Учитель музыки». Она могла бы написать роман «Учительница музыки». Я бы учила детей гиляков игре на фортепиано.
[134]Полина Анненкова — Анненкова Прасковья Егоровна (Полина Гебль) (1800-1876) — жена декабриста И. А. Анненкова, последовала за ним в Сибирь. Александр Дюма (отец) описал историю француженки Полины Гебль (в романе — Луиза Дюпюи), ставшей женой декабриста Анненкова, в романе «Записки учителя фехтования» (1840).
«Женщина должна беречь свою красоту и здоровье», — вспомнила она советы своей тетушки. В Иркутске это как-то смешно было слушать. Нет, не беречь! Я готова жертвовать собой. Она была уверена, что ее красоты и здоровья хватит надолго. Я ли не здорова? О-о! Мне еще далеко до старости! Правда, в Охотске, впервые взглянувши в зеркало, она ужаснулась, заметив перемену в своем лице. Как оно поблекло и вытянулось. Она была дурна, бледна, худа. Но сейчас опять лицо ее оживленно и блещет красками юности. Глаза снова зажглись, игра не прекращается в них. Это душа, полная жизненной силы, выражается в их взгляде.
— А ты знаешь, я наконец нашел прекрасного кузнеца!
И она радовалась, что он нашел кузнеца. А он радовался фортепиано.
— Я должен сам проверить все оружие, я занимаюсь этим. Кстати, ты должна научиться стрелять из пистолета… Но вот несчастье, бумаг нет из Петербурга! Неужели опять все будет, как с инструкцией?!
— Да, это важно, — соглашалась она, все более проникаясь уважением к казенным хлопотам и заботам.
Муж и жена приехали на «Байкал». В первый раз в жизни Катя ступила на корабль.
— Это твоя каюта? — спросила она, спустившись вниз.
— Да, это моя каюта.
— Ты тут мечтал?
Он молча кивнул.
— И плакал?
Она кротко, ласково и стыдливо склонила голову и прислонилась лбом к его груди. Он обнял ее. Она нашла губами его губы и крепко поцеловала.
— Ты думал тут обо мне?
— Да…
Она опять поцеловала его.
— Я мечтала идти на этом судне, с тобой, в твоей каюте…
— Но, может быть, я возьму еще одно судно в Аяне. Тут нет никаких удобств. Я строил это судно для себя.
Как объяснить ему, что именно здесь ей хочется идти. Именно в этой маленькой каюте без всяких удобств, где он шил так долго. Тогда можно почувствовать, как он жил, что думал.
— Какой веселый наш-то? — говорили матросы на «Байкале», проводив капитана с женой.
— Вот он прошлый-то год дичал! — сказал Иван Подобин. — Как она ему голову-то вскрутила! А какая вежливая, здоровается со всеми за ручку и расспрашивает.
— Попал Геннадий Иванович в штрафную! — смеялись матросы.
— У меня почти все готово, — говорил Невельской, возвратившись домой, — а бумаг нет. Я держу судно, до зарезу нужное в другом месте. Завойко проклянет меня. Он и так ненавидит меня. Я понимаю, что ему нужны суда.
Утром вошел вестовой.
— Геннадий Иванович, к вам курьер…
— Слава богу! — просветлел Невельской. — Ангел мой, как я счастлив! — сказал он, целуя жену. — Я иду!
|